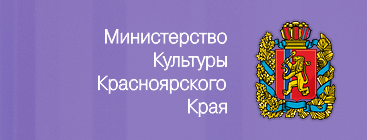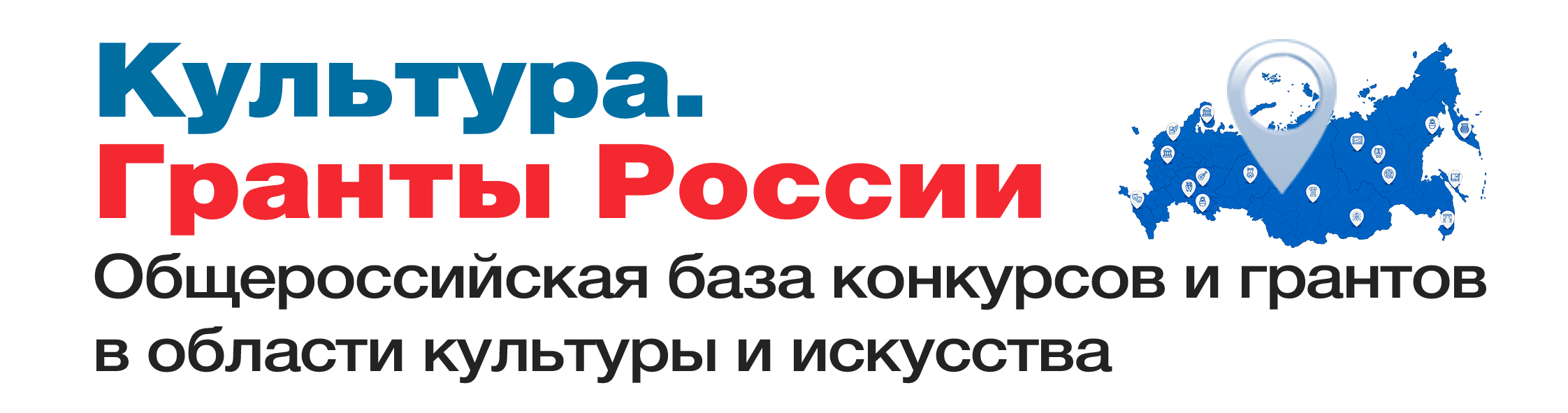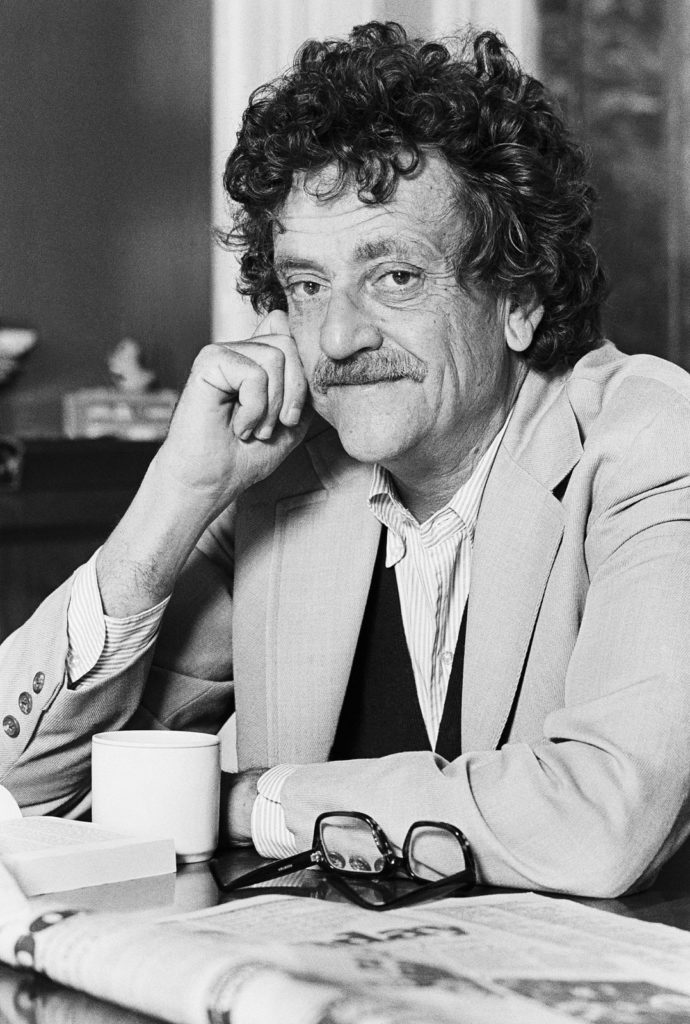
Курт Во́ннегут-младший (англ. Kurt Vonnegut Jr. /kɜːrt ˈvɒnəɡət/; 11 ноября 1922, Индианаполис, Индиана — 11 апреля 2007, Нью-Йорк) — американский писатель и общественный деятель. Является автором 14 романов, более 50 рассказов, нескольких сборников эссе и публицистики, нескольких пьес и сценариев. В его произведениях присутствуют элементы сатиры, чёрного юмора и научной фантастики. Его роман «Бойня номер пять, или Крестовый поход детей», вышедший в 1969 году, считается одним из важнейших в американской литературе XX века.
Пик популярности Воннегута пришёлся на 1970-е годы. Среди наиболее известных произведений писателя романы «Сирены Титана», «Мать Тьма», «Колыбель для кошки», и «Завтрак для чемпионов».
Курт Воннегут родился в Индианаполисе в семье американцев немецкого происхождения. Его отец, Курт Воннегут-старший, был преуспевающим архитектором, а мать Эдит Либер — светской львицей, дочерью богатого промышленника. В годы Великой депрессии семьи Воннегутов и Либеров обеднели, и Курт рос в достаточно стеснённых условиях. В годы учёбы в общеобразовательной школе Курт увлёкся журналистикой, тогда же сформировалось его оригинальное чувство юмора. По окончании школы в 1940 году он хотел стать журналистом в местной газете, но, по настоянию отца, поступил на химический факультет Корнеллского университета. В отличие от своего старшего брата Бернарда, Курт не испытывал интереса к науке и бо́льшую часть времени тратил на работу в университетской газете. В результате в 1943 году он был отчислен, записался добровольцем в армию и в декабре 1944 года оказался на фронте. 19 декабря 1944 года он попал в плен, после чего был отправлен на принудительные работы в Дрезден, где 14 февраля следующего года пережил разрушительную бомбардировку. Вместе с самоубийством матери в том же году данное событие стало определяющим для становления мировоззрения писателя. После войны Воннегут попытался завершить образование, затем некоторое время работал в General Electric. С 1950 года он начал профессионально заниматься литературой и вначале писал рассказы разных жанров для глянцевых журналов. Первый роман Воннегута «Механическое пианино» вышел в 1952 году, принеся писателю ограниченную известность среди любителей фантастики. Этот и несколько последующих романов были проигнорированы критикой, не относивших писателя к серьёзным авторам. Перелом в критическом восприятии писателя произошёл в 1969 году, когда роман «Бойня номер пять, или Крестовый поход детей» стал литературной сенсацией, принеся Воннегуту мировое признание. Следующие романы были приняты менее восторженно, но тем не менее регулярно попадали в списки бестселлеров. С начала 1970-х годов Воннегут начал карьеру оратора и публициста, выпустив несколько сборников выступлений, интервью и автобиографических эссе. В своих публичных выступлениях он нередко затрагивал проблемы разоружения, экологии и феминизма. Последний роман Воннегута «Времетрясение» вышел в 1997 году, а последний сборник эссе «Человек без страны» — в 2005 году. Курт Воннегут был дважды женат. У него было семеро детей: трое родных от первого брака с Джейн Кокс, трое усыновлённых племянников и приёмная дочь во втором браке с Джилл Кременц.
С творчеством Воннегута связана обширная критическая традиция. На раннем этапе литературоведов преимущественно интересовал вопрос, каким образом произведения писателя соотносятся с существующими литературными традициями. Сам Воннегут отказывался считать себя писателем-фантастом или представителем иных стилей. Как правило, романы Воннегута относят к литературе постмодернизма, находя, впрочем, черты и других направлений. С конца 1980-х годов увеличилось число исследований, рассматривающих произведения с точки зрения выражения в них определённых концепций, существуют психиатрические, мифологические, гуманистические, марксистские и многие другие трактовки.
Биография.
Становление.
Происхождение. Семья.
Согласно распространённой точке зрения, основополагающим фактом биографии Курта Воннегута является его принадлежность к семье немецкого происхождения. Основным источником сведений о предках писателя является исследование его родственника Джона Рауха, пересказанное в одной из частей «автобиографического коллажа» «Вербное воскресенье». Первое, что счёл необходимым заявить Воннегут о своих предках, это то, что они «из поколения в поколение слыли людьми образованными и … не были рабами, наверное, со времён римских гладиаторов». Прапрадед будущего писателя, саксонец Якоб Шрамм происходил из семьи торговцев зерном. С собой в Индиану он привёз не только 5000 долларов, но и 600 книг и мейсенский обеденный сервиз. Впоследствии он разбогател, стал крупным землевладельцем, совершил кругосветное путешествие и написал книгу советов для немецких эмигрантов. Его единственная дочь Матильда вышла замуж за Генри Шнулля. Последний, получив от тестя стартовый капитал, занялся оптовой торговлей бакалейными товарами и тоже разбогател. Прародитель с отцовской стороны Клемент Воннегут родился в немецком городе Мюнстере в 1824 году. Там он получил среднее образование, знал латынь и греческий, свободно говорил по-французски. Хотя и был воспитан в католической вере, он был вольнодумцем, восхищался Вольтером. В 1848 году он эмигрировал в США и в Индианаполисе стал партнёром в небольшой скобяной лавке, а затем единственным владельцем компании «Скобяные изделия Воннегута». Как многолетний глава Образовательного совета Индианаполиса он заслужил уважение в городе. Из всех своих предков Курт Воннегут-младший выделял именно Клемента, «скептика, отвергающего веру в непознаваемое». Прапрадед с материнской стороны, ветеран Гражданской войны Петер Либер в 1865 году купил крупнейшую в Индианаполисе пивоварню, которую несколько десятилетий спустя продал британскому синдикату. В 1893 году он вернулся в Германию в качестве генерального консула в Дюссельдорфе. Там он купил замок на Рейне — в нём подолгу гостила его внучка, мать писателя. Управляющим пивоварни стал сын Петера, Альберт (Albert Lieber). Согласно семейной хронике, Альберт присваивал всё, что превышало установленную владельцами норму прибыли, что позволяло ему жить на широкую ногу. Женой Альберта Либера была Алиса Барус, дочь профессора Карла Баруса, «первого настоящего преподавателя пения, скрипки и фортепиано в городе». Сын Клемента Воннегута Бернард не пошёл по стопам отца, а, окончив Массачусетский технологический институт, стал архитектором. Вместе с напарником Артуром Боном он создал архитектурное бюро «Vonnegut & Bohn». Сын Бернарда, Курт Воннегут-старший, с 1890 по 1899 год получал начальное образование в Индианаполисе, а затем три года учился в Американском колледже германского Страсбурга. Там он изучил немецкий язык, приобрёл немецкие привычки и стал поклонником немецкой классической музыки. В 1908 году Курт Воннегут-старший окончил Массачусетский технологический институт и, после смерти отца, продолжил обучение в Берлине. В 1910 году он вернулся на родину и стал партнёром в фирме «Vonnegut & Bohn».
22 ноября 1913 года Курт Воннегут-старший женился на Эдит Либер, дочери Альберта Либера. Венчание состоялось в соборе унитарианской церкви, что стало компромиссом между вольнодумством Воннегутов и протестантизмом Либеров. На пышном тожестве в отеле «Клейпул» присутствовали родственники со стороны жениха и невесты и их знакомые общим числом около 600 человек. От этого брака родилось трое детей: Бернард (1914—1997), Алиса (1917—1958) и Курт. Вначале молодожёны жили в умеренной роскоши, держали слуг, гувернанток и ни в чём себе не отказывали, но с началом Первой мировой войны финансовое положение Воннегутов начало стремительно ухудшаться. Из-за ухудшения отношения к немцам сократились заказы фирмы «Vonnegut & Bohn», а после принятия Сухого закона разорился Альберт Либер. Тем не менее сбережения позволили безбедно прожить 1920-е годы. Старшие дети получили образование в частных школах, а полученное в 1929 году наследство Наннет Шнулль дало возможность приобрести участок в городе и построить на нём красивый трёхэтажный дом. С наступлением Великой депрессии строительные заказы прекратились, и Воннегут-старший на десятилетие остался без работы. Эдит распродавала фамильный хрусталь и фарфор и пыталась сочинять рассказы для газет и журналов. Стремясь сохранить прежний уровень жизни, Воннегуты потратили остатки наследства на трёхнедельное путешествие в Париж. Большой дом выставили на продажу, но покупатель нашёлся только в 1939 году. На остатки средств семья приобрела участок в предместье Уильямс-Крик, и к 1941 году Воннегут-старший завершил там строительство нового, более скромного дома.
Детство и юность.
Курт Воннегут родился 11 ноября 1922 года, в День перемирия. Много позднее писатель испытывал гордость от того, что его рождение пришлось на день, связанный с идеей мира. Сам себя он относил к поколению Великой депрессии, наряду со своими писателями-ровесниками Джеймсом Джонсом, Джозефом Хеллером и Норманом Мейлером. Как вспоминал писатель, благополучные 1920-е годы ему не запомнились, а сформировавшийся в кризисные 1930-е годы «эгалитарный стиль» стал одним из ценных приобретений детства. Индианаполис, штат Индиана, где родился Курт, неоднократно упоминается в его произведениях как олицетворение ценностей американского среднего класса. Хотя некоторые из построек «Vonnegut and Bohn» признавали украшением города, Воннегут-старший не пользовался репутацией выдающегося архитектора и занимался преимущественно проектами офисных или коммерческих зданий. В 1920-е годы фирма выполнила несколько крупных подрядов, включая строительство большого склада, театра и штаб-квартиры Bell Telephone Company. Работа над зданиями отделений телефонной компании требовала архитектурного надзора, и маленький Курт часто сопровождал отца в его рабочих поездках по штату. В 1924 году Воннегуты с двумя старшими детьми съездили в Гамбург на свадьбу тёти Ирмы, вышедшей замуж за немца, плантатора в Гондурасе, а малыш Курт-младший остался на попечении бездетного дяди Алекса и его жены. На лето Воннегуты снимали дом на полуострове Кейп-Код. В 1928 году мальчика записали в частную Орчард-скул, в которой дети активно вовлекались в разнообразную созидательную деятельность; впоследствии писатель с благодарностью вспоминал директора школы Хиллиса Хоуи (Hillis L. Howie). Депрессия привела к краху строительной отрасли, и с 1929 по 1940 год Воннегут-старший сидел без работы. Его решением стало отойти от активной жизни, стать «спящим художником», сидеть дома, слушая любимую музыку, и пополнять коллекцию оружия. Защищая право отца на такой выбор, Воннегут-младший сожалел о том, что в результате прервалось их личное общение. Не меньшим было влияние Депрессии на психическое состояние матери. В автобиографическом романе «Времетрясение» (1997) автор замечает, что его «мать имела пагубное пристрастие к богатой жизни, к толпам слуг, к неограниченным кредитам, к грандиозным званым обедам, к регулярным поездкам в Европу первым классом. Так что можно сказать, что всю Великую депрессию её преследовал синдром отнятия». Эдит пыталась заняться сочинительством, но без успеха. Позднее Курт отмечал, что его мать была хорошим писателем, но у неё не было востребованного издателями таланта к вульгарности, которым он сам обладал в избытке. Осознание невозможности «остаться тем же, чем она была, когда выходила замуж, — одной из богатейших женщин в городе» привело к развитию психического заболевания, завершившегося самоубийством в 1944 году.
По мнению крупного специалиста по жизни и творчеству Воннегута Джерома Клинковица (Jerome Klinkowitz), Великая депрессия стала для писателя даже более травмирующим событием, чем пережитая им в 1945 году бомбардировка Дрездена. В начале 1930-х, когда благосостояние семьи было окончательно утрачено, мальчика перевели из частной школы в обычную начальную школу № 43, потом в 1936 году в Шортриджскую среднюю школу. В отличие от матери, Курт счёл такую перемену к лучшему. В новой школе круг его знакомств расширился, восполняя дефицит общения в семье. Как самому младшему, ему было сложно вклиниваться в разговоры Бернарда и Алисы с отцом. На многолюдных встречах родственников все говорили по-немецки, а этим языком Курт не владел. Одним из способов привлечения к себе внимания стали шутки, и, совершенствуясь, он много слушал комедийные радиопередачи. В предисловии к сценарию фильма «Между временем и Тимбукту» Воннегут высоко оценивал американских комиков и говорил, что «больше всего обязан Лорелу и Харди, Ступнейгелу и Баду, Бастеру Китону, Фреду Аллену, Джеку Бенни, Чарли Чаплину, „Easy Aces“, Генри Моргану и иже с ними». «Освежающая невинность» юмора комедийного дуэта Боба и Рэя проистекала, пояснял он, из того, что они показывали не сломленных неудачами людей, а смеялись над собственной и чужой глупостью. Воннегут рос в читающей семье и много читал взрослым. Из классической литературы он рано познакомился с древнегреческой комедией: в возрасте 14 лет своей разнузданностью его привлёк Аристофан. Отмечаемые многими критиками черты сходства во взглядах с Марком Твеном сам писатель считал малоинтересной «игрой», выделяя только тот факт, что оба они «ассоциировались с врагами в большой войне» (в Гражданскую войну Твен воевал на стороне Конфедерации). Из непосредственных литературных влияний Воннегут указывал на Генри Торо, чей стиль он брал за образец в молодости, Роберта Льюиса Стивенсона, чьему мастерству рассказчика подражал в рассказах 1950-х годов. Своим любимым писателем Воннегут неоднократно называл Джорджа Оруэлла: «мне нравится его внимание к бедным, мне нравится его социализм, мне нравится его простота», — сказал он в одном из интервью.
Из взрослых в детстве Курту были наиболее близки двое: младший брат отца Алекс и афроамериканка Ида Янг, домработница. Дядя Алекс был социалистом и приобщил племянника к чтению «Теории праздного класса» Торстейна Веблена. Влияние Иды Янг было в сфере житейской мудрости; в одном из своих интервью Воннегут говорил, что её влияние на него было наибольшим. Важнейшим занятием школьных лет позднее Воннегут называл работу в школьной ежедневной газете «Shortridge Echo». Работая в ней вначале репортёром, а затем колумнистом и редактором, он открыл в себе писательский талант. Юная, но взыскательная аудитория не прощала ошибок, и если автор плохо делал свою работу, он получал «кучу дерьма в 24 часа». Осознав, что хороших читателей так же мало, как и хороших писателей, Воннегут научился писать проще, выверять пунктуацию и ставить больше пробелов. По мнению друга писателя, литературоведа Уильяма Аллена, в течение всей своей дальнейшей литературной карьеры Воннегут следовал усвоенным в детстве простым правилам журналистики: правильно обращаться с фактами, использовать простые повествовательные структуры и повествовательные предложения.
Окончив в мае 1940 года Шортриджскую школу, Курт Воннегут получил предложение о работе от «Indianapolis Times» и хотел остаться в Индианаполисе. Однако по настоянию отца, который считал увлечения своего сына историей, литературой и философией бесполезной тратой денег и времени, Курт был определён на химический факультет Корнеллского университета. Предпосылкой такого выбора был пример брата Бернарда, который в 1939 году получил степень Ph.D. по химии в Массачусетском технологическом институте. Покинув Индианаполис, Воннегут никогда больше подолгу не жил в родном городе, но всегда продолжал осознавать себя как хужера, выходца из Индианы. В 1986 году, произнося речь в Публичной библиотеке Индианаполиса, он говорил: «Все мои шутки из Индианаполиса. Все мои привязанности из Индианаполиса. Мои аденоиды из Индианаполиса. Если я когда-нибудь отделюсь от Индианаполиса, я останусь не у дел. Всё, что людям нравится во мне, — это Индианаполис».
По утверждению официального вестника Корнеллского университета, «отвращение Воннегута к химии оказалось благом для американской литературы». Суммарно он проучился в этом учебном заведении три года, так его и не окончив. Бо́льшую часть времени Курт посвящал работе в «The Cornell Daily Sun», старейшей независимой ежедневной студенческой газете США. Выбранный из трёх десятков претендентов, вначале он вёл колонку, для которой несколько раз в неделю писал юмористические заметки. Курт быстро усвоил принятый в газете стиль, основным элементом которого была краткость: по мнению редакторов «Сан», длинные абзацы огорчают читателя и выглядят уродливо. Конкурентом «Сан» был юмористический журнал «Cornell Widow», с чьими сотрудниками Курт поддерживал отношения. За три года в Итаке Воннегут отточил свой писательский стиль и узнал достаточно о науке, чтобы поддерживать разговор и представлять себе влияние технологий на общество. Позднее он отмечал, что, как и учёные наподобие его брата, он задаёт вопросы «что если», но только отвечает на них не в ходе экспериментов, а описывая невероятные ситуации в своих произведениях. Такие умственные эксперименты заставляют читателя глубже задумываться о мире вокруг себя и своём месте в нём. С началом Второй мировой войны в своей колонке Курт неоднократно обращался к политическим вопросам. В одной из заметок он защищал непопулярные изоляционистские взгляды Чарльза Линдберга, в другой — критиковал антигерманские настроения американской прессы. По воле случая Курт оказался выпускающим редактором вечером 7 декабря 1941 года, и именно ему довелось оповестить университет о том, что Япония напала на США. Много лет спустя коллега Воннегута по редакторской работе Саймон Миллер Харрис вспоминал, что будущий писатель воспринимал тогда своё пребывание в университете как временное, пока Военное министерство слушает образовательное лобби, желающее сохранить колледжи на плаву.
Журналистика была не единственным, что интересовало Курта Воннегута в предвоенные годы. Стремительно развивались отношения с Джейн Мэри Кокс (Jane Marie Cox), с которой он дружил со времён Орчард-скул. Её семья англо-ирландского происхождения принадлежала к тому же социальному слою, что и Воннегуты. Влюблённые часто обсуждали будущую семейную жизнь, наполненную книгами, музыкой и детьми, которых планировалось не меньше семи. Джейн поступила в Суортмор-колледж, и Курт часто писал ей письма с признаниями в любви, в то время как Джейн вела в Суортморе довольно активную светскую жизнь и часто ходила на свидания.
Вторая мировая, плен и бомбардировка Дрездена.
Со вступлением США во Вторую мировую войну студенческие вечеринки были запрещены, и пребывание в Корнелле стало для Курта совершенно непереносимым. В мае 1942 года его уведомили, что при сохранении текущего уровня успеваемости его вскоре отчислят. Стремясь избежать службы по призыву, Воннегут записался на офицерские курсы Корпуса подготовки офицеров запаса, но тоже был отчислен вследствие «катастрофического недопонимания», вызванного одной из его статей. Лето молодой человек провёл работая на ферме у родственников Глоссенбреннеров, но и там нельзя было забыть о войне: ветеран Первой мировой дядя Дэн записался в армию, а его сын Вальтер учился на пилота. Другой кузен со стороны Воннегутов поступил в Корпус армейской авиации. Брат Бернард, как перспективный молодой учёный, избежал призыва, но плодотворно работал на армию в лабораториях Hartford-Empire и MIT. В декабре Курт заболел пневмонией, завалил зимнюю сессию в январе 1943 года и был отчислен. Не дожидаясь призыва, он попытался добровольно записаться на военную службу, но был признан непригодным по состоянию здоровья и из-за избыточного веса. Вторая попытка в марте оказалась успешной, и вскоре под номером 12102964 рядового Курта Воннегута — младшего отправили в Форт-Брэгг, Северная Каролина. Во время военных сборов он научился обращаться с 240-миллиметровой гаубицей M1, стреляющей огромными 130-килограммовыми снарядами, но не получил никакой пехотной подготовки. Затем по результатам тестирования Воннегут был включён в Специализированную программу военной подготовки (ASTP). Изначально предполагалось, что обучение продлится 18 месяцев, и окончившие его станут офицерами. Сначала Воннегут изучал основы инженерного дела в университете Карнеги, а затем более углублённо в университете Теннесси. К 1944 году армия уже не испытывала острой потребности в офицерах, и участников ASTP начали перебрасывать в Европу. Курт пытался устроиться по журналистской части, но ему не удалось. Его зачислили в 106-ю пехотную дивизию и направили в Кэмп-Аттербери близ Индианаполиса для тренировки на разведчика. В городе как раз находилась Джейн, и Курт попытался связаться с ней, не зная, что в это время она уже почти обручилась с другим. Родители к тому времени переехали в Уильямс-Крик, где Воннегут-старший построил скромный двухэтажный дом. С появлением военных заказов у него появилась работа, но для Эдит переезд из большого дома стал очередным шагом вниз. Продав оставшиеся облигации, они в начале 1940 года успели съездить в последний раз в Париж. Курт по выходным отдыхал дома, и в один из таких дней, на День матери, Эдит скончалась, приняв большую дозу снотворного.
Лето и начало сентября 1944 года прошли в сборах и подготовке к отправке в Европу. Джейн Мэри Кокс тем временем получила диплом историка в Суортморе и поступила на работу в Управление стратегических служб (OSS), будущее ЦРУ, и уехала в Вашингтон. 106-я дивизия стала последней из американских дивизией, скомплектованной по мобилизации. 17 октября солдаты отплыли из США и без затруднений доплыли до Англии. Две недели заняли приготовления в Челтнеме, и только в конце ноября был получен приказ выступать. 6 декабря 1944 года 423-й пехотный полк, где служил Воннегут, высадился в Гавре. Боевое крещение новобранцев произошло в горном районе Шне-Айфель, где они встретились с германскими войсками, в ходе Арденнской операции наступающими в направлении Сен-Вита. 423-й полк выдвинулся сильно вперёд и был отрезан от основных сил. Три дня совместно с 424-м полком он пытался удерживать позиции, но обещанные подкрепления не поступали. 19 декабря полковник Чарльз Кавендер (Charles Cavender) отправил шесть человек, включая Курта, на поиски американской артиллерии. Блуждая по заснеженным холмам, они наткнулись на 50 других американцев, а затем все вместе были захвачены немцами. Хотя Курт плохо говорил по-немецки, он смог сообщить о своём немецком происхождении. После освобождения в письме к отцу он написал:
Семь танковых дивизий извергов отрезали нас от остальной части Первой армии Ходжеса. Другим американским дивизиям на наших флангах удалось отойти. Мы же были вынуждены стоять и сражаться. Штыки не слишком хороши против танков. Боеприпасы, продовольствие и медикаменты исчерпались, а наши потери превысили число тех, кто ещё мог сражаться, — и мы сдались. <…> Я был одним из немногих, кто не был ранен. И на том спасибо Богу.
Вначале Воннегута, вместе с несколькими тысячами других военнопленных, отправили в лагерь Шталаг IX-B около города Бад-Орб, но там их отказались принимать. Шталаг IV-B близ Мюльберга также был переполнен, и Воннегут несколько дней бродил по снегу вокруг лагеря. Через три дня, согласно Женевской конвенции, он смог отправить открытку домой. Письмо шло несколько месяцев, в течение которых родственники думали, что Курт пропал без вести. Та же конвенция требовала, чтобы он, как рядовой, отрабатывал своё содержание в плену, и в числе 150 военнопленных Воннегут был отобран в Arbeitskommando 557 и отправлен в Дрезден. Ежедневный рацион американцев состоял из 250 грамм чёрного хлеба и пинты картофельного супа. Воннегут был назначен старостой группы военнопленных, поскольку после двух лет в университете мог немного говорить по-немецки. После того как он сказал охранникам, что с ними сделает, когда придут русские, был избит и лишён статуса старосты. Вместе с другими заключёнными Курт сначала разбирал завалы на улицах, а затем работал на фабрике, производящей витаминный сироп для беременных. На ночь пленных запирали на бездействующей скотобойне номер пять, а во время воздушных тревог уводили в подвал, где раньше хранились туши животных. Благодаря этому Воннегуту удалось выжить во время бомбардировки Дрездена 14 февраля 1945 года. Налёт авиации союзников практически полностью уничтожил город и огромное число мирных жителей. Переживания Воннегута, участвовавшего в разборе завалов и сжигании трупов, нашли отражение во многих произведениях, среди которых и роман «Бойня номер пять, или Крестовый поход детей», принёсший автору известность.
Когда американские войска захватили Лейпциг, находящийся недалеко от Дрездена, Воннегута в числе других военнопленных переправили на восток, ближе к Судетской области. Он был освобождён в мае 1945 года войсками Красной Армии. Через Дрезден Воннегута направили в транзитный лагерь Лаки Страйк, а затем на родину. По возвращении в США Курт был произведён в капралы и награждён медалью «Пурпурное сердце» в связи с перенесённым обморожением. Сам Воннегут отнёсся к награде скептически, как полученной за «до смешного незначительное ранение». Также он отмечал, что никого за время войны не убил.
Первые послевоенные годы в Чикаго.
После возвращения в США Курт Воннегут был направлен на канцелярскую работу в Форт-Райли, Канзас. Оттуда он начал писать письма Джейн, напоминая ей о себе и своих чувствах. Джейн, в свою очередь, не считала себя связанной обещанием Курту и собиралась выйти замуж за другого. Курт настаивал и по дороге в Индианаполис заехал в Вашингтон, чтобы встретиться с ней. В результате одна длинная прогулка и откровенный разговор смогли изменить ситуацию, они снова были вместе. 4 июля 1945 года Курт наконец добрался до дома. Его крайняя худоба, нездоровый вид и страстный рассказ о пережитых им событиях произвели сильное впечатление на домашних. Джейн приехала с ним, но вскоре вернулась в Вашингтон, увозя обручальное кольцо, переделанное из старого кольца матери Курта. Там она уволилась из OSS, указав в качестве причины предстоящее замужество. Дожидаясь Бернарда, который уехал присутствовать при рождении своего первенца, Курт зашёл в «Indianapolis Times» полистать подшивки и обнаружил, что о бомбардировке Дрездена американцам практически ничего не известно. Свадьбу, первоначально назначенную на 14 сентября, перенесли на две недели, поскольку Курту надо было по армейским делам в Майами. 1 сентября 1945 года Курт и Джейн поженились в Индианаполисе. Бернард, только что получивший приглашение на работу в General Electric, не смог присутствовать. Во время медового месяца, сначала в отеле в French Lick Springs, а затем на озере Максинкуки, Воннегут начал писать свою первую картину, избрав её предметом кресло, и начал читать «Братьев Карамазовых», затем «Войну и мир» и учебник матанализа. Книги русских классиков были частью приданного Джейн, получившей отличное образование в области литературоведения.
Пока он ещё служил в армии, у Воннегута было достаточно свободного времени, и он начал сочинять. Очевидным выбором в качестве темы был его военный опыт. В одном из своих первых рассказов он обратился к гибели своего друга — военнопленного Майкла Палайа (Michael Palaia). Этот и другие рассказы Курт показал Джейн, у которой был опыт редакторской работы в университетском издании. Жена высоко оценила первые литературные опыты Курта. По объявлению она нашла литературного консультанта Скаммона Локвуда (Scammon Lockwood) и послала ему четыре рассказа, охарактеризовав мужа в сопроводительном письме как «потенциального Чехова». Локвуд, согласившись с перспективностью начинающего автора, порекомендовал больше работать и читать классиков, того же Чехова. В декабре 1945 года Воннегуты переехали в Чикаго, где планировали поступить в Чикагский университет. Джейн продолжила обучение славянским языкам и литературе, а Курт воспользоваться правом на образование по закону о льготах ветеранам. Собеседование он прошёл успешно, но сложность представлял выбор факультета, поскольку в университете не учили на журналиста. Достаточно случайным образом Курт выбрал антропологию. В то время молодые супруги часто обсуждали положение в мире, сложившееся после атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. После войны Чикаго стал одним из центров антивоенного движения, и преподаватель Курта Роберт Редфилд был его активным участником. Под влиянием Редфилда Воннегут сменил направление обучения, с физической антропологии на культурную. Последняя не требовала естественнонаучной подготовки и не вызывала отторжения, даже нравилась — Курт её сравнивал с поэзией. Из идей Редфилда его наиболее увлекала теория формирования культур в «народных сообществах» (англ. folk society), ставшая теоретической основой пропагандируемой писателем во многих романах идеи расширенной семьи. На летних каникулах 1946 года Курт попытался суммировать свой дрезденский опыт, результатом чего стало эссе «Wailing Shall Be in All Streets». После отказа в «The American Mercury» Воннегут отправил текст в ряд других изданий, но также безрезультатно.
Уже с сентября предыдущего года жизнь молодой семьи стала менее идилличной. Джейн тяжело переносила беременность и ушла из университета, ей требовалась помощь в работе по дому. Сохранилась расписка, в которой Курт обещает как минимум раз в неделю «мыть ванну, туалет, ледник и по углам», выносить мусор и чистить пепельницы, в противном случае он разрешал супруге «пилить и попрекать себя» вне зависимости от того, чем он занят. Тем не менее этого не было достаточно, и в дополнение к учёбе Курту пришлось искать подработку. Таковая нашлась в городском бюро новостей, куда его взяли на подсобные ночные работы.
Старший сын Воннегутов родился 11 мая 1947 года и был назван в честь Марка Твена. После его рождения Курт начал активнее искать «настоящую» работу и даже подал объявление о её поиске, но везде требовалась учёная степень. Пришлось активизировать работу над диссертацией. В то время были актуальны исследования культуры коренных американцев, и Воннегут темой диссертации амбициозно избрал «Сравнение мифологии Пляски Духа с той же мифологией более спокойного времени» («А Comparison of Elements of Ghost Dance Mythology with That Mythology of More Tranquil Period»). В своей работе он предполагал сопоставить сообщество индейцев-сектантов конца XIX века с парижскими кубистами начала XX века. Научный руководитель Воннегута Джеймс Слоткин (James Sydney Slotkin) полагал такое сопоставление уместным, но университет тему отклонил. В августе положение стало критическим — ветеранские деньги заканчивались, в новостном бюро платили очень мало. С учётом критики Курт начал работу над менее амбициозной темой диссертации — «Неустойчивое соотношение между добром и злом в простых сказках» («Fluctuations between Good and Evil in Simple Tales») на основе идей Жоржа Сореля. Внезапно новостное агентство предложило ему перейти на полную ставку репортёра, и Воннегут согласился. Новая работа не оставляла времени на диссертацию, а рассказы отклонялись издателями. С другой стороны, появилось несколько предложений по работе, самое привлекательное из которых было от новостного бюро General Electric, куда Воннегута порекомендовал Бернард. Соврав своему будущему боссу, что уже является обладателем степени по антропологии, Курт принял предложение от GE и покинул Чикаго, так и не окончив университета. Позже, в 1972 году, он всё же получил учёное звание по антропологии от Чикагского университета — за роман «Колыбель для кошки».
Работа в General Electric.
Бернард тепло встретил брата в Скенектади, штат Нью-Йорк, помог найти дом неподалёку от своего в предместье Альплаус — две спальни и кабинет — и объяснил, как пользоваться корпоративной скидкой. В магазине фирмы Курт купил бытовую технику и ожидал прибытия Джейн, которая задержалась в Чикаго. В 1947 году, когда Курт Воннегут устроился в General Electric, компания процветала, продавая товаров на 1,3 миллиарда долларов в год. Её новостное бюро обеспечивало материалами множество изданий, рассчитанных на разную аудиторию. На должности «младшего писателя» (junior writer) Воннегут зарабатывал $90 в неделю — гораздо больше, чем в Чикаго, и втрое больше, чем мог бы получать в Индианаполисе. От сотрудника бюро требовались не стандартные пресс-релизы, как в других компаниях, а высококачественные журналистские материалы, подтверждающие пребывание GE на острие прогресса. Уже через несколько дней после приёма на работу Воннегут подготовил статью для «Нью-Йорк таймс» о новых натриевых лампах. В дальнейшем писатель полюбил промышленность и увлечённо обсуждал с инженерами компании огромные турбины и новые технологии. Одним из наиболее интересных мест была метеорологическая лаборатория, в которой Бернард под руководством известного физика Ирвинга Ленгмюра исследовал ураганы и грозовые тучи.
Несмотря на производственные успехи и даже повышения, Воннегут рассматривал свою работу в GE как временную. Основной целью было писательство, и уже было понятно, что его рассказы о войне спроса не найдут. Из развлекательных литературных жанров популярные журналы охотно печатали детективы, вестерны и научную фантастику, но вначале Воннегут решил попробовать силы в сентиментальной прозе. Рассказы «Руфь» о военной вдове и её свекрови, «Город» о случайной встрече мужчины и женщины на автобусной остановке и «Начальное образование» женские журналы отвергли, как и все прочие до них. Тем не менее Джейн не теряла веру в талант мужа и всячески поддерживала его. Тему для своего первого удачного рассказа, «Мнемотехника», Воннегут нашёл в корпоративной жизни: его герой, незначительный служащий, проходит курс по тренировке памяти, делает карьеру и строит отношения с прекрасной секретаршей. В короткой истории, которую Курт несколько раз переписывал, был юмор, и она «цепляла», но из The New Yorker опять пришёл отказ — возможно, рецензент обратил внимание на сходство с рассказом «Роман биржевого маклера» О. Генри. Ещё один сюжет подсказала нашумевшая история отказа математика Норберта Винера выступать на конференции под эгидой Министерства обороны. Результатом размышлений о том, что будет, если учёный восстанет против мира политиков и военных, стал рассказ «Эффект Барнхауза». В истории не было ни романтики, ни Второй мировой войны, зато присутствовали этический выбор и оптимизм. Курт считал «Барнхауза» очень достойным и, преисполненный надежд, отправил весной 1949 года семь своих рассказов в известное литературное агентство «Russell & Volkening». Агент не решился предложить рассказы кому-либо из своих клиентов, но порекомендовал обратиться в Collier’s или в The Post. Воспользовавшись бесплатным советом, Воннегут отправил «Барнхауза» в оба журнала и получил два отказа. По случаю рецензентом Collier’s оказался старый знакомый Курта из юмористического журнала Cornell Widow Нокс Бергер. Он вспомнил Курта и предложил встретиться и подробно обсудить творчество начинающего писателя. Многодневные разговоры с Бергером ни к чему не привели, рассказы были недостаточно хороши. Воннегут нуждался в услугах профессионала, и Бергер порекомендовал ему в качестве литературного агента своего бывшего начальника Кеннета Литтауэра (Kenneth Littauer). В августе Курт послал Литтауэру свои рассказы и, с благодарностью приняв его советы, смог наконец довести до ума «Эффект Барнхауза». Нокс подправил одобренный Литтауэром вариант и убедил Курта отказаться от использования псевдонима — тот их перепробовал несколько, последним был Дэвид Харрис (David Harris). В конце октября Воннегут получил за «Барнхауза» от Collier’s свои первые $750 гонорара, из которых 10 процентов отдал Литтауэру. В тот же день, 28 октября 1949 года, в письме к отцу Курт торжественно пообещал продолжить заниматься сочинительством, несмотря ни на что. По подсчётам Воннегута, для того, чтобы «уйти с этой проклятой службы», достаточно было продавать по пять рассказов в год. Курт и Джейн отметили продажу «Барнхауза» способом, ставшим для них традиционным, — устроили вечеринку, сорили деньгами, а затем питались овсянкой до следующего успеха.
29 декабря 1949 года родилась дочь Эдит. Тогда же Курт вновь попытался продать рассказ на военную тему, но весёлая сказка о «Der arme дольметчер» Бергеру не понравилась. Другой рассказ того же периода, автобиографический «Олень на комбинате», был издан только в 1955 году, став первым, проданным в Esquire. «Эффект Барнхауза» появился в продаже 11 февраля 1950 года, и триумф молодого писателя был отмечен в местной газете. В своих следующих рассказах Воннегут продолжил разрабатывать научно-фантастические темы: в «Танасфере» речь шла о первом космическом полёте, а в «ЭПИКАКе» — о влюблённом суперкомпьютере. 4 апреля 1950 года «Танасферу» принял Collier’s. Писательская работа всё больше занимала Воннегута. Литтауэр предложил подумать над развитием «Эффекта Барнхауза» до романа, он обещал продать его за $2500. Курт пока не чувствовал в себе таких сил и продолжал писать рассказы, которые Бергер отклонял один за другим. Особенные надежды Курт возлагал на рассказ «Лёд-девять». Вдохновлённая метеорологическими исследованиями брата, история опасного изобретения позднее будет включена в третий роман писателя «Колыбель для кошки», но в 1950-м её тоже не удалось продать. Под влиянием Бернарда, ставшего прототипом персонажей-учёных многих ранних рассказов, писатель начал работу над своим первым романом «Механическое пианино».
В конце концов Бергер купил «ЭПИКАК» и «Der arme дольметчер», а в ноябре 1950 года за $1250 был продан «Белый король». Поскольку стало понятно, что писательство может прокормить семью, в середине декабря Курт написал заявление об увольнении. Поскольку он уже давно открыто демонстрировал отсутствие заинтересованности в продолжении сотрудничества, со стороны компании возражений не последовало, и с 1 января 1951 года Воннегут был свободен. Джейн поддерживала мужа на сто процентов, чему Нокс был удивлён, он не вполне верил в перспективы профессиональной писательской карьеры Курта.
Творческий путь.
1950-е: в поисках темы.
После ухода из General Electric писатель вместе с семьёй переехал в небольшую деревню Остервилл в штате Массачусетс на южном берегу Кейп-Кода. Там Воннегут, следуя своему плану, писал примерно по пять рассказов в год. Получаемый им доход позволял балансировать на границе среднего класса или, по его собственному сравнению, на уровне директора школьной столовой. Рассказы 1950-х годов составили два сборника: «Добро пожаловать в обезьянник» (1968) и «Табакерка из Багомбо» (1999). Открывающий «Добро пожаловать в обезьянник» рассказ «Где я живу» в духе «новой журналистики» повествует о непритязательном образе жизни в массачусетской глуши. В сборнике автобиографических эссе «Судьбы хуже смерти» Воннегут также неоднократно обращается к событиям 50-х годов. Став профессиональным писателем, Воннегут распланировал своё время: на написание рассказа отводилось десять дней, на его вычитку три. Так был написан рассказ «Между временем и Тимбукт», посвящённый проблематике путешествий во времени. Рассказ получился слишком сентиментальным и не удовлетворил автора, но наработки оттуда были использованы во втором романе, «Сирены Титана» (1959). В то же время работа над «Механическим пианино» поначалу шла плохо. Зачин романа отсылал к «Запискам о Галльской войне» Юлия Цезаря, а сюжет должен был напоминать американскую версию «Слепящей тьмы» Артура Кёстлера. Местом действия в «Механическом пианино», как и во многих ранних произведениях, была крупная технологическая корпорация, в которой без труда угадывался General Electric. Город Айлиум из романа напоминает Скенектади своим разделением на мир тех, кто имеет учёную степень, и всех остальных, к которым в том числе принадлежал Воннегут. Этический пафос романа в значительной степени был вдохновлён недавними книгами Норберта Винера, «Кибернетикой» и «Человеческим использованием человеческих существ». Курту представлялось, что учёного заинтересует его точка зрения на развитие технологического общества, и по его просьбе один из экземпляров романа был отправлен Винеру. К глубокому разочарованию писателя, Винер категорически не согласился с его дистопическим видением недалёкого будущего. Курт опасался, что роман может повредить карьере брата, но вскоре после публикации, в августе 1952 года, Бернард уволился из лаборатории и переехал в Массачусетс. Ещё в процессе редактирования «Механического пианино» Воннегут вернулся к написанию рассказов. Проблема, с которой он столкнулся на этот раз, состояла в том, что крупные издания неохотно брали рассказы политической направленности, тогда как ему хотелось высказываться на острые темы. Так или иначе, рассказы продавались не очень хорошо, и Воннегут подозревал, что или его занесли в чёрный список Collier’s, или Бергер и Литтауэр плохо работают. Некоторая задержка с выходом в свет «Механического пианино» заставила Воннегута тревожиться о доходах, но в конце концов книга появилась в продаже достойным для начинающего автора тиражом в 7600 экземпляров. В Индианаполисе дядя Алекс развернул рекламную кампанию, призывая знакомых и родственников покупать книгу племянника. В числе тех, кто с приятным удивлением узнал о появлении нового автора, был молодой фантаст Филип К. Дик.
В начале 1954 года перед Воннегутом вновь встал денежный вопрос. Джейн была опять беременна, а первый роман не принёс молодому писателю славы и богатства. Положительных рецензий было мало, и «Механическое пианино» довольно скоро забылось. Что было гораздо хуже, журналы стали меньше покупать рассказы. Тем временем Бергер перешёл из Collier’s в отдел саспенса издательства Dell. Курт сохранил с ним дружеские отношения и писал личные письма практически каждую неделю — о работе, семье, браке и даже желании совершить супружескую измену. Последнее требовалось Воннегуту для вдохновения, и наилучшей кандидатурой, по его мнению, была соседка, подруга Джейн. С изменой ничего не получилось, и у писателя начала развиваться депрессия. Чтобы развлечься, Курт и Джейн вместе вступили в два местных клуба, читательский и театральный. На лекциях читательского клуба Воннегут изучал «Поэтику» Аристотеля и общие принципы литературной композиции. Театральные занятия тоже были интересны, и вскоре Курт получил возможность дебютировать на сцене. Участие в театральной жизни деревни вдохновило Воннегута на написание одного из самых известных своих рассказов, «А кто я теперь?» (1961). В мае 1954 года Воннегут купил свой первый телевизор и приобщился к телевизионной культуре эпохи её расцвета. Супруги увлеклись просмотром вечерних шоу, и вскоре Курт заявил Бергеру, что он понял, что его призвание — быть сценаристом. Вместе со своим другом, журналистом Робертом Рутфордом (Robert B. Ruthford), Воннегут за восемь дней написал пьесу «Emory Beck» и отправил её Литтауэру. Ответа не последовало. Рождение Наннет в октябре 1954-го стало для писателя «катарсисом», но потребность в дополнительных источниках заработка ещё более возросла. Рассказ «Лёд-9» не приняли ни в Collier’s, ни в Scribner’s, но последние выдали аванс под его переработку в роман. Новые рассказы тоже продавались плохо, рынок художественной литературы сокращался из-за развития телевидения. Дом в Остервилле перестал удовлетворять разросшуюся семью, и по совету друга Воннегуты в ноябре переехали в больший дом в Уэст-Барнстейбле, другом посёлке на полуострове Кейп-Код. Отношения с Джейн оставались напряжёнными — после тяжёлой беременности у неё началась послеродовая депрессия, вера в писательское будущее мужа иссякла. Чтобы содержать семью, Воннегуту пришлось сочетать свою любимую работу с написанием заметок в Sports Illustrated, а также с дилерской продажей автомобилей SAAB.
В феврале 1955 года приятная новость о переиздании «Механического пианино» была омрачена тем, как издательство Bantam отнеслось к книге и писателю: переиздание было осуществлено под названием «Утопия 14», а на обложке были представлены корчащиеся обнажённые фигуры на фоне машин и мрачного пейзажа. Книга продавалась в аптеках и автобусных остановках вместе с дешёвой макулатурой и комиксами. Хотя репутации Воннегута среди критиков был нанесён заметный урон, его книги заметил массовый читатель. В 1957 году смерть отца писателя ознаменовала окончательную утрату связи с Индианаполисом. Менее чем через год сестра Курта Воннегута Алиса скончалась от рака. Трагизм ситуации был усугублён тем, что за два дня до её смерти погиб в железнодорожной катастрофе её муж Джеймс Адамс, который ехал в госпиталь проведать свою умирающую супругу. После их смерти осталось четверо несовершеннолетних детей. Первый год все четверо жили у Воннегутов, а затем младшего усыновила сестра Джеймса Адамса, а троих старших, Джеймса, Стивена и Курта, усыновили Курт и Джейн. История о детях, полностью осиротевших за 36 часов попала в газеты, Курт от имени семьи давал интервью. На фоне семейных проблем работа продвигалась плохо — «Колыбель» не продвинулась дальше первых шести глав, рассказы практически не продавались: два в 1957 году и только один в следующем. Поскольку Scribner’s начали требовать вернуть аванс, Курту пришлось возобновить работу над «Колыбелью», несмотря на то, что условия в доме стали «адскими».
Зимой 1958 года Бергер, отвечающий теперь в Dell за издание недооценённых произведений, убедил Воннегута начать работу над новым романом — «Сиренами Титана». Идея оказалась плодотворной, и через несколько месяцев книга была завершена. Второй роман Воннегута вышел небольшим тиражом в 2500 экземпляров. Дядя Алекс, которому Курт посвятил «Сирен», порадовался за племянника, но книга ему не очень понравилась. Немногочисленные рецензенты были сбиты с толку необычной формой романа и сравнивали его с оперой «Сказки Гофмана», называли мистификацией и «хоккеем». Несмотря на то, что книгу выдвинули на премию «Хьюго», продавалась она крайне плохо. В декабре 1959 года Воннегут прервал писательскую деятельность ради постройки 18-футовой скульптуры кометы для ресторана аэропорта Бостона. Бергер, пытавшийся тем временем заинтересовать «Сиренами» деятелей киноиндустрии, убедил Курта вернуться к писательству.
1960-е: первый успех.
Весной 1960 года дела пошли в гору — женский журнал McCall’s купил сразу два рассказа, и Курт и Джейн смогли позволить себе поездку на три недели в Англию. В феврале 1961 года издательство Houghton Mifflin переиздало «Сирен» в твёрдом переплёте. Работа над романом о Второй мировой войне под рабочим названием «Evil, Anyone?» шла с переменным успехом, поскольку Курт постоянно отвлекался на сторонние проекты. Тем временем по предложению Бергера была подготовлена первая антология рассказов, и в октябре 1961 года в свет вышел сборник «Канарейка в шахте». Роман «Evil, Anyone?», после редактирования Бергером принявший окончательное название «Мать Тьма», вышел в свет осенью 1961 года и стал очередным дешёвым изданием в карьере писателя. Как и прежде, критических отзывов практически не было. Ради денег Воннегуту пришлось поступить учителем английского в расположенную неподалёку школу, в результате чего для писательства ему осталось время только по вечерам и в выходные. Несмотря ни на что, «Колыбель для кошки» была завершена осенью 1962 года и опубликована издательством Holt, Rinehart, and Winston сразу в твёрдом переплёте. Стилистическая изобретательность романа, отмеченная несколькими критиками, не изменила общего отношения к писателю, по-прежнему находившемуся на дне издательского рынка Америки. Тем не менее в 1964 году «Дай вам Бог здоровья, мистер Розуотер» тоже был издан сразу в твёрдом переплёте, а затем в 1966 году было переиздано «Механическое пианино». Рецензии были хорошими, но «Розуотер» недолго продержался в продаже, и к 1965 году Воннегут вновь столкнулся с материальными трудностями. Писатель вновь вернулся к работе над своим военным романом, приобрётшим наконец окончательное название, — «Бойня номер пять». В поисках вдохновения с дочерью и её подругой он съездил в Нью-Йорк на всемирную выставку, где встретился со своим армейским другом времён Дрездена Бернардом О’Хэйром (Bernard V. O’Hare). Как Воннегут рассказывал во вступлении к роману, концепция произведения у него сложилась в ходе разговора с супругой О’Хэйра.
Благодаря стечению обстоятельств, Курт получил приглашение с сентября 1965 года вести писательский семинар в Университете Айовы. Получив возможность отдохнуть от семейных неурядиц, Воннегут решил завершить работу над своей много лет назад заброшенной диссертацией. Он проанализировал несколько классических сказов, сопоставил их с мифами индейцев, но результат, к возмущению писателя, опять не удовлетворил антропологов Чикагского университета. Постепенно втянувшись в ритм преподавания, Воннегут выстроил комфортный распорядок дня, позволявший плодотворно работать несколько часов до обеда. На время преподавания Воннегут переселился в Айова-Сити, периодически воссоединяясь с семьёй. Впервые Курт оказался в литературной среде, и, обнаружив, что многие знаменитые романы ему не знакомы, он с головой погрузился в чтение. В ходе дискуссий с участниками семинара, многие из которых были состоявшимися писателями, он глубоко погрузился в анализ собственного творческого процесса. Воннегут переосмыслил свой журналистский опыт и пришёл к выводу о необходимости большего привнесения личных переживаний в свои произведения, что помогло ему в работе над «Бойней номер пять». Другим видимым признаком перехода к новому направлению стало написание автобиографического вступления к переизданию «Матери Тьмы». Значительным событием в карьере писателя стало случайное знакомство с издателем Сеймуром Лоуренсом, специализировавшимся на работе с недооценёнными авторами. В 1966 году они заключили контракт стоимостью $75 000 на три последующие книги. Первой из них стал сборник рассказов «Добро пожаловать в обезьянник» (1968). Впоследствии Воннегут с благодарностью вспоминал, что доверие Лоуренса было ему крайне важно в тот период. В октябре 1967 года писатель получил престижную стипендию Гуггенхайма для поездки в Дрезден. По пути Воннегут, желая выразить признательность освободившей его из плена стране, на два дня заехал в Ленинград. Послевоенный Дрезден не имел ничего общего с той сказочной архитектурной фантазией, которую успел застать писатель до бомбёжки, и напоминал скорее Дейтон в штате Огайо. С точки зрения наполнения романа поездка оказалась бесполезной, как и общение с другими участниками событий. Тем не менее мучительная многолетняя эпопея была завершена, и в 1969 году сенсационный успех романа «Бойня номер пять» вывел Воннегута в центр читательского внимания. В 1968 году, с выступления на литературном фестивале Университета Нотр-Дам, Воннегут раскрыл свой талант оратора. Благодаря усилиям Лоуренса читательский интерес к Воннегуту рос, особенно среди студентов. Росли тиражи — к 1968 году было продано 150 000 экземпляров «Колыбели» и 200 000 «Сирен», а с ними доходы. Чтобы соответствовать ожиданиям своей аудитории, Курт похудел и отпустил волосы. Пока он ещё не прибегал к радикальной политической риторике, но уже начал приобретать репутацию «левака», чему способствовала публикация отрывков готоящейся к печати «Колыбели» в главном издании «новых левых» «Ramparts».
Выход в свет «Бойни номер пять» в начале марта 1969 года практически совпал по времени с крупным наступлением коммунистов во Вьетнаме, что сделало антивоенный пафос книги чрезвычайно актуальным. 10 000 экземпляров первого тиража были распроданы практически сразу. Отзывы критиков были преимущественно комплиментарными: Грэнвил Хикс назвал роман: «лучше, чем большая часть нф», Лесли Фидлер сравнивал с «8½» Феллини. Роман стал редким для американской литературы примером одновременного признания среди критиков и простых читателей. Появившись в разгар войны во Вьетнаме, книга стала голосом поколения, опустошённого и деморализованного жестокостью современной войны.
На конец 1960-х годов пришлось завершение продлившегося 25 лет брака с Джейн Кокс. Постоянное принижение Куртом умственных способностей жены, его измены в айовский период и после, непрекращающиеся семейные скандалы сделали сохранение брака невозможным. Одной из последних капель стало высмеивание Куртом практики трансцендентальной медитации и лично Махариши, учением которого увлеклась Джейн. Пройдя «через ужасные, неизбежные эпизоды», супруги расстались в 1970 году, отложив юридические формальности.
1970-е годы: взлёты и падения.
После развода Воннегут переехал в Нью-Йорк. Осенью 1970 года он снял пентхауз на Манхэттене (Гринвич-Виллидж), чтобы иметь возможность присутствовать на репетициях своей пьесы «С днём рождения, Ванда Джун». В одном из интервью Воннегут признавался, что он стал писать пьесы для того, чтобы изменить круг общения. Премьера состоялась 7 октября 1970 года на сцене театра де Лис. Пьеса продержалась до 14 марта следующего года, получив смешанные отзывы. Хотя Воннегуту понравилось общаться с актёрами, он понял, что его призвание состоит в написании прозы. В ходе репетиций Воннегут познакомился со своей будущей женой, фотожурналистом Джилл Кременц. В 1972 году сын Марк перенёс острый психоз, который пришлось лечить в стационаре. Свой опыт он описал в имевшей успех автобиографии «Райский экспресс». Сам Воннегут начал испытывать депрессию и до середины десятилетия «сидел» на антидепрессантах. Преодолев зависимость, он стал еженедельно посещать психолога. Пришедший внезапно успех и возникновение ситуации, когда он мог бы продать всё, что напишет, привели писателя к творческому кризису. Воннегут не знал, о чём ему больше писать, и чувствовал, что его карьере писателя пришёл конец. Начало 1970-х годов прошло в череде лекционных туров, заботах о душевном здоровье Марка и решении проблемы, как лучше инвестировать внезапно нахлынувшее богатство. Отношения с Джилл постепенно развивались, но и с Джейн Курт сохранял близкую дружбу. На протяжении 1970-х годов Воннегут удостоился многочисленных наград и почётных званий. Он преподавал в Гарварде и Нью-Йоркском университете, занимая в последнем должность заслуженного профессора английской литературы. Также он был избран вице-президентом Академии искусств и литературы, получил почётные степени в Университете Индианы и ряде колледжей. В 1972 году его роман «Бойня номер пять» был экранизирован кинокомпанией Universal Pictures.
Пышные торжества по случаю 50-летия писателя совпали с завершением работы над романом «Завтрак для чемпионов», в который вошли не попавшие в «Бойню» материалы. На волне успеха «Бойни» «Завтрак» был хорошо принят читателями и год продержался в списке бестселлеров, но критики были разочарованы. В апреле 1974 года при поддержке Сэма Лоуренса был издан сборник эссе, выступлений и разного рода заметок «Вампитеры, Фома и Гранфаллоны». Как отмечалось в одной из рецензий, только писатель с репутацией Воннегута мог себе позволить издать книгу с таким названием. Вышедший в 1976 году роман «Балаган, или Конец одиночеству!» автор посвятил комикам эпохи Депрессии Лорелу и Харди и сопроводил объёмным автобиографическим вступлением, в котором вспоминал давно умершую сестру Алису и недавно скончавшегося дядю Алекса. Роман был плохо принят критиками, утверждавшими, что Воннегут исписался. Во включённом в сборник «Вербное воскресенье» «Автоинтервью» писатель заявляет, что критики «вознамерились раздавить меня, как таракана», за то, что он пишет без «систематического изучения великой литературы», не джентльмен и «кропает халтуру для вульгарных журналов». Причина провала у критиков двух последних романов, возможно, была в том, что Сэм Лоуренс, в отличие от Нокса Бергера, не уделял значительного внимания редактуре романов Воннегута. Тем не менее книги стали бестселлерами и закрепили статус писателя как знаменитости.
В 1977 году Воннегут вернулся к лекционной деятельности, выступив в нескольких университетах Айовы. В октябре вместе с Лоуренсом он посетил Франкфуртскую книжную ярмарку, где обсуждались издания романов на основных европейских языках. В конце 1978 года Курт и Джейн согласовали раздел имущества: бывшей супруге достался дом в Барнстейбле, часть акций и облигаций, а также алименты в размере $100 000 в год. Следующей весной окончательная точка в продлившемся 34 года браке была поставлена. На этом фоне Воннегут завершил работу над романом «Рецидивист», в котором продолжил движение в направлении реализма. Внутренне готовясь к очередной неудаче, в одном из интервью 1979 года писатель признавался, что у него иссякли идеи и он подумывает о завершении писательской карьеры. Предварительные отзывы, однако, были обнадёживающие, и клуб «Книга месяца» сделал роман своей главной рекомендацией в сентябре. В ожидании официального выхода книги в мае Воннегут принял участие в вашингтонском марше против атомной войны.
1980-е годы: стареющая знаменитость.
24 ноября 1979 года Курт и Джилл Кременц сочетались браком в одной из методистских церквей Нью-Йорка. Состоявшись как фотожурналист, Джилл, приближаясь к сорока годам, хотела иметь ребёнка. У Курта, к тому времени уже дважды ставшего дедушкой, такой потребности не было, но он не возражал. Новость о беременности Джилл в октябре 1980 года совпала с завершением сборника ностальгически-автобиографических заметок «Вербное воскресенье». Радостные события пара отметила рождественскими каникулами на Гаити, но по возвращении в Нью-Йорк произошла трагедия: на третьем месяце беременности у Джилл случился выкидыш. Депрессию писателя усугубляли критики, с хвалебных отзывов переключившиеся на выявление причин феноменального успеха Воннегута. Согласно одной из гипотез, одной из причин могло стать уменьшение себестоимости книг в твёрдом переплёте, что привело к появлению на рынке книг сомнительной литературной ценности. Больше всего писателя задел отзыв критика из «Нью-Йорк таймс» Анатоля Бройяра, написавшего: «…глядя, как разнообразные рецензенты пытаются избежать нелицеприятных высказываний в адрес новой книги Воннегута, понимаешь, что, в отличие от общественного мнения, литературная репутация — это вещь, которую потерять сложнее всего». Чтобы отвлечься, Воннегут вернулся к старому хобби, рисованию. В октябре 1982 года вышел очередной роман, «Малый не промах», как и предыдущий, построенный в форме подведения главным героем итогов наполненной ошибками жизни. Книга наполнена автобиографическими аллюзиями: главный герой романа случайно убил беременную женщину в День матери выстрелом из отцовского ружья и теперь живёт на Гаити, поскольку нейтронная бомба уничтожила его родной город. Проблему оружия массового уничтожения писатель затрагивал и в публичных выступлениях тех лет. На торжествах по случаю 60-летия Воннегута ему был преподнесено уникальное издание собранных о нём анекдотов, от детства в Индианаполисе до 1982 года. В ходе торжеств была анонсирована книга Джилл об усыновлении, а месяц спустя пара взяла из приюта девочку Лили. Радости семейной жизни не избавили писателя от депрессии. Осознание своего положения стареющей знаменитости, завершение периода ремиссии у Джейн в ноябре 1983 года ухудшали его состояние. В конце 1983 года он возобновил знакомство с Лори Рекстро, своей бывшей любовницей времён Айовы, и жаловался ей на отказ издательства Гарри Абрамса издавать его рисунки: «…я не человек Ренессанса, а депрессивный маньяк с некоторыми однобокими дарованиями». Результатом развития депрессии стала попытка самоубийства в марте 1984 года, когда Воннегут принял большое количество алкоголя, снотворного и антидепрессантов. Его вовремя обнаружили, спасли и на 18 дней поместили в госпиталь Сент-Винсент. После выписки он некоторое время жил отдельно от семьи, в квартире, которую ему нашла дочь Эдит на улице Макдугал.
Месяц спустя после выписки из госпиталя Воннегут съездил на конференцию ПЕН-клуба в Токио, после чего вернулся к уединённой жизни в квартире на улице Макдугал и продолжил работу над романом «Галапагосы». В феврале книга была завершена, в результате чего многолетний контракт с издательством Dell был исполнен. Впервые за многие годы писатель не был связан контрактными обязательствами, в ознаменование чего позволил себе двухнедельный тур по Восточной Европе: Польша, ГДР, Чехословакия. По возвращении он воссоединился с Джилл и Лили. Одиннадцатый роман Воннегута «Галапагосы» вышел осенью 1985 года и показывал масштабную картину эволюции человечества в направлении отказа от огромного ненужного мозга ради обретения гармонии с природой. С сожалением писатель обнаружил, что критики вновь стали видеть в нём несерьёзного писателя, не прощая ему смешение науки с литературой. В октябре 1985 года Курт Воннегут сыграл маленькую эпизодическую роль самого себя в комедии «Снова в школу» 1986 года, получив гонорар $25 000. По сюжету, главный герой нанимает его для написания реферата на тему творчества писателя. Позже преподаватель отвергает работу, утверждая, что автор ничего не понимает в творчестве Воннегута, а главный герой, в свою очередь, выговаривает писателю, угрожая, что в следующий раз обратится к литературному критику. Вышедший весной 1987 года двенадцатый роман Воннегута, «Синяя борода», многие авторитетные издания не удостоили рецензии, сочтя малоинтересными поднятые в нём вопросы о назначении современного искусства. Главным героем романа является художник Рабо Карабекян, представитель абстрактного экспрессионизма. Он весьма состоятелен, но абсолютный неудачник как в творческом отношении (его главные полотна не сохранились), так и в личном (его дети с ним не разговаривают). Под именем напористой писательницы Цирцеи Берман, по не вполне понятным причинам решившей на некоторое время связать свою жизнь с Карабекяном, как признавался сам Воннегут, выведена Джилл. Ещё более депрессивным стал следующий роман, «Фокус-покус» (1990), навеянный размышлениями о старости и упадке Америки. Действие романа отнесено к 2001 году, когда главный герой, Юджин Дебс Хартке, размышляет об ошибках и упущенных возможностях, личных и своей страны. Следующим крупным огорчением для писателя, после смерти Джейн в конце 1986 года, стал уход армейского друга Бернарда О’Хэйра в июне 1990 года от рака горла — он был таким же завзятым курильщиком, как и сам Воннегут.
В 1980-х годах Воннегут продолжил активно высказываться по актуальным политическим вопросам на различных площадках, выступая за свободу слова, феминизм, разоружение и против иммиграционных ограничений. Примером цензуры со стороны истеблишмента для Воннегута стала история с отбором книг для участия в Московской книжной ярмарке 1985 года. Составленный программным комитетом, председателем которого был Воннегут, список был подвергнут критике со стороны консервативных организаций, и в конце концов отвергнут как не отражающий весь политический спектр литературы США. Один из главных консервативных интеллектуалов того времени У. Ф. Бакли счёл такой исход закономерным, учитывая отношение Воннегута к внешней политике страны. Тот же Бакли в одном из телеинтервью обвинил Воннегута в политизации деятельности Пен-клуба, продвижении с его помощью либеральной повестки.
1991—2007: последние годы и смерть.
1990-е годы супруги Воннегут встретили на грани развода: Курт называл Джилл «нелюбимой женой, начисто лишённой хозяйственных способностей», она изменяла ему. Чтобы отвлечься, Воннегут уехал на лето в деревню Сагапонак, где ранее, в картофельном сарае своего друга, писал «Синюю бороду». Одиночество давалось ему с трудом, Джилл предлагала забыть о разногласиях и отозвать заявление на развод, но примирение пока выглядело недостижимым. Тем временем его положение живого классика постепенно укреплялось: в марте 1992 года он вошёл в Американскую академию искусств и литературы, а два месяца спустя Американская гуманистическая ассоциация назвала его «Гуманистом года». Постепенно налаживались отношения с проживающими в Барнстейбле детьми, племянниками и внуками. В 1994 году Воннегут неожиданно для окружающих примирился с Джилл и вернулся на Манхэттен.
Работа над последним романом, получившим название «Времетрясение», была завершена в конце лета 1996 года. «Времетрясение» стало самым «метафикциональным» романом писателя, в котором перемешаны автобиография, размышления над предыдущими книгами и разговоры с Килгором Траутом. Вслед за выходом романа Воннегут уехал в Денвер на презентацию своих рисунков и сорта пива «Kurt’s Mile-High Malt», для которого он нарисовал этикетку, сваренного по секретному рецепту своего прадеда Питера Либера. В Денвере Курт узнал о неутешительных прогнозах по поводу брата Бернарда, которому диагностировали рак лёгких. 25 апреля 1997 года тот скончался. Хотя роман был объявлен последним, Воннегут не оставил писательской деятельности. В 1999 году литературовед Питер Рид убедил писателя опубликовать 23 давно не переиздававшихся рассказа, составивших сборник «Табакерка из Багомбо». В том же году вышел сборник «Дай вам Бог здоровья, доктор Кеворкян», в который вошли радиоинтервью на различные темы. Несмотря на преклонный возраст, Воннегут оставался востребованным оратором. Одной из наиболее популярных тем его лекций было обсуждение повествовательных структур, восходящее к диссертации для Чикагского университета. В последующие годы, наполненные заботами о здоровье, ссорами с Джилл, периодическими уходами из дома, Воннегут подготовил свой последний прижизненный сборник эссе, вдохновлённый глубоким разочарованием писателя в политике президента Джорджа У. Буша и войной в Ираке. «Человек без страны» вышел в сентябре 2005 года и шесть недель продержался в лидерах книжного рейтинга «The New York Times». На вопрос, почему «Времетрясение» не стало его последней книгой, Воннегут отвечал: «Ну, я наделся, что помру». Более того, он начал работу над романом под рабочим названием «Если бы Бог был жив сегодня», но проблемы со здоровьем, прежде всего респираторные, сильно мешали. Зимой 2007 года он уже отказывался от участия в публичных мероприятиях, сравнивая себя со старой больной игуаной.
Курт Воннегут скончался 11 апреля 2007 года от последствий черепно-мозговой травмы, полученной при падении со ступеней своего манхэттенского «браунстоуна» на 42-й улице. Несмотря на опасения писателя, что он забыт как реликт 1960-х годов, его смерти было уделено значительное внимание в новостных сюжетах и вечерних телевизионных программах. На его родине в Индианаполисе 2007 год отмечался как «год Воннегута». В последующие годы вышло несколько посмертных сборников рассказов писателя («Армагеддон в ретроспективе» (2008), «Сейчас вылетит птичка!» (2009), «Пока смертные спят» (2011)), в которые вошли также ранние эссе и речи. В их подготовке принимал участие Марк Воннегут. В честь писателя назван астероид 25399, открытый 11 ноября 1999 года.
Шарлотта Бронте.
Шарло́тта Бро́нте (англ. Charlotte Brontë; 21 апреля 1816, Торнтон, Великобритания — 31 марта 1855, Хоэрт, Великобритания), псевдоним Каррер Белл (Currer Bell) — английская поэтесса,одна из самых известных представительниц английского романтизма и реализма. Старшая сестра Эмили Бронте и Энн Бронте. Считается, что Шарлотта Бронте и ее «Джейн Эйр» породили феминистское движение в литературе.
Шарлотта вывела в своем романе сильную женщину-героиню, которая не боялась преодолевать трудности и противостоять ударам судьбы. Ни одной подлинной фотографии Шарлотты не сохранилось.
Биография.
Шарлотта Бронте родилась 21 апреля 1816 года в Западном Йоркшире и была третьим ребёнком (а их было шестеро — Мэри, Элизабет, Шарлотта, Патрик Бренуэлл, Эмили и Энн) в семье священнослужителя англиканской церкви Патрика Бронте (родом из Ирландии) и его жены Марии, в девичестве Бренуэлл.
В 1820 году семья переехала в Хоэрт, где Патрик был назначен на должность викария.
Мать Шарлотты скончалась от рака матки 15 сентября 1821 года, оставив пять дочерей и сына на воспитание своему мужу Патрику.
Образование.
Кован-Бридж.
В августе 1824 года отец отправил Шаpлотту в Кован-Бриджскую школу для дочерей духовенства (две её старшие сестры, Мария и Элизабет, были отправлены туда в июле 1824, а младшая, Эмили, в ноябре). При поступлении в школьном журнале была сделана следующая запись о знаниях восьмилетней Шарлотты:
Шарлотта Бронте. Поступила 10 августа 1824. Пишет неразборчиво. Немного считает, шьёт аккуратно. Не знает ничего о грамматике, географии, истории или этикете. В целом умней своего возраста, но ничего не знает систематически. Покинула школу 1 июня 1825. Гувернантка.
Кован-Бриджская школа послужила прототипом пансиона Ловуд в романе «Джейн Эйр». Плохие условия подорвали и без того слабое здоровье Мэри (род. в 1814) и Элизабет (род. 1815) Бронте. В феврале 1825 года мистер Бронте забрал из школы заболевшую туберкулёзом Мэри; в мае того же года вторая сестра, Элизабет, была отправлена домой, совершенно больная от чахотки. Вскоре после возвращения в Хоэрт сёстры Шарлотты умерли. Двух младших девочек мистер Бронте немедленно забрал домой (1 июня 1825 года).
Дома в Хоэртском пасторате Шарлотта и другие оставшиеся в живых дети: Бренуэлл, Эмили и Энн принялись за написание хроники жизней и борьбы жителей их воображаемых королевств. Шарлотта и Бренуэлл писали байронические истории о вымышленных английских колониях в Африке, центром которых являлась великолепная столица — Стеклянный Город (Гласс-Таун, впоследствии — Вердополис), а Эмили и Энн писали книги и стихи о Гондале. Их сложные и замысловатые саги, корнями уходящие в детство и раннюю юность писательниц, определили их литературное призвание.
Роу-Хед.
В 1831—1832 годах Шарлотта продолжила своё образование в Роу-Хедской школе (Mирфилд), которую возглавляла мисс Вулер. С Маргарет Вулер Шарлотта до конца жизни сохранила добрые отношения, хотя между ними бывали трения.
В Роу-Хеде Шарлотта познакомилась со своими сверстницами Эллен Насси и Мэри Тейлор, с которыми подружилась и в дальнейшем переписывалась.
Окончив образование, Шарлотта в 1835—1838 годах работала учительницей в Роу-Хеде. По решению семьи Шарлотта привезла с собою в школу Эмили: она оплачивала обучение младшей сестры из своего жалованья. Однако неспособность Эмили жить в новом месте среди посторонних людей изменила первоначальные планы: Эмили пришлось отослать домой, а её место заняла Энн.
В 1838 году Шарлотта и Энн покинули мисс Вулер под предлогом того, что переезд школы в Дьюсбери Мур плохо сказался на их здоровье. Дьюсбери Мур действительно был довольно нездоровой местностью, но главной причиной ухода Шарлотты была, очевидно, усталость от нелюбимой работы и невозможность писать (произведения 1835—1838 годов созданы урывками в краткие недели школьных каникул).
Литературные амбиции.
Переписка с Робертом Саути.
Рано начав писать, Шарлотта также рано осознала своё призвание и дарование. Первая известная нам попытка будущей писательницы войти в литературный мир относится к 1836 году. 29 декабря Шарлотта отправила письмо и стихи известному поэту Роберту Саути, прося его высказать своё мнение. Это письмо до нас не дошло, и поэтому неизвестно, какие именно стихотворения читал Саути. Ясно, однако, что своё горячее желание стать известной поэтессой Шарлотта высказала поэту-романтику в весьма экзальтированном стиле. В ответном письме Саути процитировал некоторые пассажи своей корреспондентки, позволяющие составить представление об остальном содержании:
Что я из себя представляю, вы могли бы узнать из тех моих опубликованных сочинений, которые попадали вам в руки; но вы живёте в мире видений и, кажется, воображаете, что так же обстоит дело и со мной, когда просите меня «снизойти с трона света и славы». Знай вы меня, небольшое личное знакомство умерило бы ваш энтузиазм. Вы, кто так пылко желает «стать известной в веках» поэтессой, смогли бы до некоторой степени остудить свой пыл, видя поэта на склоне его жизни и подмечая то воздействие, которое оказывает возраст на наши надежды и вдохновение.
Саути нашёл, что мисс Бронте, несомненно, обладает — «и не в незначительной степени» — поэтическим даром, однако счёл нужным предупредить свою корреспондентку, что то экзальтированное состояние, в которое её, видимо, повергает поэзия, вредно для её душевного здоровья, может помешать её дальнейшему счастью и сделает её непригодной к выполнению традиционных женских обязанностей, которые, по мнению престарелого поэта, для женщины должны быть важнее всякого творчества.
Письмо Саути оказало на Шарлотту благотворное влияние. Хотя её видимая экзальтация была связана не с творчеством, а с невозможностью заниматься творчеством (в это время она преподаёт в Роу-Хеде и полный день занята обучением учениц и присмотром за ними), тем не менее, она хорошо осознала, что устами Саути говорит расхожая мудрость эпохи. Она приняла совет писать стихи только ради них самих, хотя практически это выразилось в том, что она принизила значение своей поэзии. Её второе благодарственное письмо произвело на Роберта Саути самое благоприятное впечатление.
Шарлотта, вероятно, так и не узнала, что на отношение к ней Саути отчасти повлияло одно постороннее обстоятельство. Немногим позднее Шарлотты её брат, Бренуэлл, также отправил письмо и стихи Уильяму Вордсворту (вполне возможно, что брат и сестра вместе задумали эти обращения). Письмо Бренуэлла не понравилось Вордсворту, и он отозвался о нём Саути самым негативным образом. Саути писал об этом Каролине Баулз:
Я послал дозу охлаждающего предостережения бедной девушке, чьё взбалмошное письмо настигло меня в Бакленде. Дозу приняли хорошо, и она поблагодарила меня за неё. (…) Почти в то же время, как она написала мне, её брат написал Вордсворту, которому его письмо внушило отвращение, поскольку содержало грубую лесть по отношению к нему самому и обильную брань по адресу других поэтов, включая меня. О сестре я думаю хорошо благодаря её второму письму, и, возможно, она всю свою жизнь будет благожелательно вспоминать меня.
Письмо к Хартли Кольриджу.
Из общения с Робертом Саути Шарлотта извлекла три урока: во-первых, она решает оставить поэзию и обратиться к прозе, во-вторых, планирует отказаться от романтизма в пользу реализма, и, в-третьих, решает отныне пользоваться псевдонимом, чтобы ни лесть по отношению к женщине, ни традиционные убеждения не препятствовали оценке её сочинений.
В 1840 году она отправляет первые главы задуманного ею романа «Эшворт» Хартли Кольриджу (сыну известного поэта). Кольридж, очевидно, сделал ряд замечаний, суть которых клонилась к тому, что роман не будет принят издателями. Обращение Шарлотты, видимо, было подсказано советом её брата, Бренуэлла, который виделся с Кольриджем по поводу своих переводов «Од» Горация.
Письмо Хартли Кольриджа к Шарлотте не сохранилось. Её ответное письмо существует в двух экземплярах: черновик и отосланный чистовик.
Первые публикации.
Со слов Шарлотты известно, что ещё до появления в печати сборника стихотворений Каррера, Эллиса и Эктона Беллов в каком-то журнале был опубликован её перевод из французской поэзии. Однако, как отметила писательница, публиковался он анонимно. Поскольку Шарлотта не указала, где и когда именно появился её перевод, установить дату её первой публикации пока не удалось.
Работа гувернанткой. Школьный проект.
В июне 1839 года Шарлотта получила свою первую должность гувернантки в семье Сиджвиков (откуда быстро ушла из-за плохого обращения), а в 1841 году — вторую, в семье мистера и миссис Уайт.
В том же году тётя Шарлотты, мисс Элизабет Бренуэлл, согласилась снабдить племянниц деньгами, чтобы они могли основать свою собственную школу. Однако Шарлотта внезапно изменила планы, решив предварительно усовершенствоваться во французском языке. С этой целью она намеревалась отправиться в одну из бельгийских школ-пансионов. Поскольку одолженных тётей денег хватало только на один семестр, Шарлотта планировала найти работу за границей. В ноябре 1841 года она писала Эмили:
Прежде, чем наши полгода в Брюсселе закончатся, нам с тобой придётся приискать себе работу за границей. Я не намерена возвращаться домой, пока не истекут двенадцать месяцев.
Брюссель.
В 1842 году Шарлотта и Эмили отправились в Брюссель, чтобы поступить в школу-интернат, управляемую Константином Эже (1809—1896) и его женой Клэр-Зоэ Эже (1814—1891). Проучившись один семестр, девушки получили предложение остаться там работать, оплачивая своим трудом возможность продолжать обучение. Шарлотта писала Эллен Насси:
Не могу сказать точно, вернусь ли я домой в сентябре или нет. Мадам Эже сделала предложение мне и Эмили остаться ещё на полгода, имея в виду уволить учителя английского и взять меня в этом качестве, а также нанять Эмили на некоторую часть дня учить музыке нескольких учениц. За эту работу нам предложено продолжить свои занятия французским и немецким, столоваться и т.д., не платя за это; однако никакого жалованья нам не предложено.
Пребывание сестёр в пансионе закончилось в октябре 1842 года, когда умерла их тётя, Элизабет Бренуэлл, заботившаяся о девочках после смерти матери.
В январе 1843 Шарлотта вернулась в Брюссель преподавать английский язык. Однако теперь время её пребывания в школе не было счастливым: девушка была одинока, тосковала по дому и, очевидно, чувствовала, что занятия литературой с мсье Эже не помогут ей начать литературную карьеру. Ощущение уходящего времени и боязнь растратить свои способности впустую в ближайшее время станут постоянным лейтмотивом писем Шарлотты. Вероятно, её пугал пример брата, чьи некогда блестящие перспективы неуклонно таяли.
Мэри Тейлор, вспоминая брюссельские встречи со своей старой школьной подругой и её последующие письма, повторила слова, часто встречающиеся в письмах самой Шарлотты:
Она сказала: «Моя молодость уходит; я никогда не сделаю ничего лучше того, что уже сделала, а я пока не сделала ничего». В таких случаях она, кажется, полагала, что человеческие существа обречены под давлением мирских интересов терять одну способность за другой, одно чувство за другим, «пока полностью не омертвеют. Надеюсь, к тому моменту, когда я омертвею, я уже буду лежать в могиле». (…) Когда она привыкла к брюссельским людям и манерам, её жизнь стала монотонной, и она впала в то же состояние безнадёжности, что и у мисс Вулер, хотя и в меньшей степени. Я написала ей, побуждая её ехать домой или ещё куда-нибудь.
Наконец, в декабре 1843 года Шарлотта решает возвратиться в Хоэрт, несмотря на то, что не видит дома никаких литературных возможностей для себя.
Брюссельский опыт Шарлотты нашёл отражение в романах «Учитель» и «Виллетт» («Городок»).
Школьный проект.
Вернувшись домой 1 января 1844 года, Шарлотта вновь решает заняться проектом основания собственной школы, чтобы обеспечить себя и сестёр заработком. Однако обстоятельства, сложившиеся в 1844 г., менее благоприятствовали такого рода планам, чем это имело место в 1841 г.
Тётушка Шарлотты, миссис Бренуэлл, умерла; здоровье и зрение мистера Бронте ослабело. Сёстры Бронте уже не имели возможности покинуть Хоэрт, чтобы арендовать школьное здание в более привлекательной местности. Шарлотта решается основать пансион прямо в Хоэртском пасторате; но их семейный дом, расположенный на кладбище в довольно дикой местности, отпугнул родителей потенциальных учениц, несмотря на сделанные Шарлоттой денежные скидки.
Начало литературной карьеры.
В мае 1846 года Шарлотта, Эмили и Энн опубликовали за свой счёт совместный поэтический сборник под псевдонимами Каррер, Эллис и Эктон Белл. Несмотря на то, что было продано только два экземпляра сборника, сёстры продолжили писать, имея в виду последующую публикацию. Летом 1846 года Шарлотта начала поиск издателей для романов Каррера, Эллиса и Эктона Беллов: это были соответственно «Учитель», «Грозовой перевал» и «Агнес Грей».
Опубликовав первую книгу на семейные средства, Шарлотта в дальнейшем хотела не тратиться на публикацию, а, напротив, получить возможность зарабатывать литературным трудом. Однако её младшие сёстры готовы были рискнуть ещё раз. Поэтому Эмили и Энн приняли предложение лондонского издателя Томаса Ньюби, который запросил за издание «Грозового перевала» и «Агнес Грей» 50 фунтов в качестве гарантии, обещав вернуть эти деньги, если ему удастся продать 250 экземпляров из 350 (тираж книг). Этих денег Ньюби не вернул, несмотря на то, что весь тираж был распродан на волне успеха романа Шарлотты «Джейн Эйр» в конце 1847 года.
Сама Шарлотта отказалась от предложения Ньюби. Она продолжила переписку с лондонскими фирмами, пытаясь заинтересовать их своим романом «Учитель». Все издательства отвергли его, однако, литературный консультант фирмы «Смит, Элдер и компания» отправил Карреру Беллу письмо, в котором благожелательно объяснил причины отказа: роману не хватает увлекательности, которая позволила бы книге хорошо продаваться. В том же месяце (август 1847) Шарлотта отослала в фирму «Смит, Элдер и компания» рукопись «Джейн Эйр». Роман был принят и напечатан в рекордно короткие сроки.
Смерть Бренуэлла, Эмили и Энн Бронте.
Вместе с литературным успехом в семью Бронте пришла беда. Брат Шарлотты и единственный сын в семье Бренуэлл скончался в сентябре 1848 года от хронического бронхита или туберкулёза. Тяжёлое состояние брата усугубило пьянство, а также наркомания (Бренуэлл принимал опиум). Эмили и Энн скончались от туберкулёза лёгких в декабре 1848 года и мае 1849 года соответственно.
Теперь Шарлотта и её отец остались одни. В период между 1848 и 1854 гг. Шарлотта вела активную литературную жизнь. Она сблизилась с Гарриет Мартино, Элизабет Гаскелл, Уильямом Теккереем и Джорджем Генри Льюисом.
Книга Бронте породила феминистское движение в литературе. Главная героиня романа, Джейн Эйр, — такая же сильная девушка, как и автор. Тем не менее Шарлотта старалась не уезжать из Хоэрта больше чем на несколько недель, так как не хотела покидать своего стареющего отца.
Замужество. Смерть.
В течение своей жизни Шарлотта неоднократно отказывалась от замужества, иногда воспринимая брачные предложения серьёзно, иногда относясь к ним с юмором. Тем не менее, она предпочла принять предложение помощника своего отца, священника Артура Белла Николлса.
Шарлотта познакомилась с будущим мужем весной 1844 года, когда Артур Белл Николлс прибыл в Хоэрт. Первое впечатление Шарлотты от отцовского помощника было отнюдь не лестным. Она писала Эллен Насси в октябре 1844:
Мистер Николлс как раз вернулся; даже ради спасения моей жизни я не могу рассмотреть в нём те интересные зачатки добра, которые ты обнаружила; меня главным образом всегда поражает узость его мышления.
Подобные отзывы встречаются в письмах Шарлотты и в более поздние годы, однако со временем они исчезают.
Шарлотта вышла замуж в июне 1854 года. В январе 1855 года состояние её здоровья резко ухудшилось. В феврале врач, осматривавший писательницу, пришёл к выводу, что симптомы недомогания свидетельствуют о начале беременности и не представляют опасности для жизни.
Шарлотту мучила постоянная тошнота, отсутствие аппетита, чрезвычайная слабость, что привело к быстрому истощению. Однако, по словам Николлса, только в последнюю неделю марта стало ясно, что Шарлотта умирает.
Шарлотта умерла 31 марта 1855 года в возрасте 38 лет. Причина смерти так и не была установлена. В свидетельстве о её смерти причиной значился туберкулёз, однако, как предполагают многие биографы Шарлотты, она могла умереть от обезвоживания и истощения, вызванного тяжёлым токсикозом. Можно также предположить, что Шарлотта скончалась от тифа, которым её могла заразить старая служанка Табита Эйкройд, скончавшаяся незадолго до смерти Шарлотты.
Писательница была похоронена в фамильном склепе в Церкви Св. Михаила, расположенной в Хоэрте, Уэст-Йоркшир, Англия.
Бродский Иосиф Александрович.
Ио́сиф Алекса́ндрович Бро́дский (24 мая 1940 года, Ленинград, СССР — 28 января 1996 года, Бруклин, Нью-Йорк, США; похоронен на кладбище Сан-Микеле Венеции) — русский и американский поэт, эссеист, драматург и переводчик, педагог.
Лауреат Нобелевской премии по литературе 1987 года, поэт-лауреат США в 1991—1992 годах. Стихи писал преимущественно на русском языке, эссеистику — на английском. Почётный гражданин Санкт-Петербурга (1995).
Детство.
Иосиф Александрович Бродский родился 24 мая 1940 года в Ленинграде в еврейской семье. Отец, капитан 3-го ранга ВМФ СССР Александр Иванович Бродский (1903—1984), был военным фотокорреспондентом, после Второй мировой войны поступил на работу в фотолабораторию Военно-морского музея. В 1950 году демобилизовался и затем работал фотографом и журналистом в нескольких ленинградских газетах. Мать, Мария Моисеевна Вольперт (1905—1983), работала бухгалтером. Родная сестра матери — актриса БДТ и Театра им. В. Ф. Комиссаржевской Дора Моисеевна Вольперт.
Раннее детство Иосифа пришлось на годы войны, блокады, послевоенной бедности и прошло без отца. В 1942 году после блокадной зимы Мария Моисеевна с Иосифом уехала в эвакуацию в Череповец, вернулись в Ленинград в 1944 году. В 1947 году Иосиф пошёл в школу № 203 на Кирочной улице, 8. В 1950 году перевёлся в школу № 196 на Моховой улице, затем, в 1953 году, — в школу № 181 в Соляном переулке и в следующем году, оставшись на второй год, перешёл в школу № 276 на Обводном канале, дом № 154, где продолжил учёбу в 7-м классе.
В 1955 году семья получает «полторы комнаты» в Доме Мурузи.
Эстетические взгляды Бродского формировались в Ленинграде 1940—1950-х годов. Неоклассическая архитектура, сильно пострадавшая во время артобстрелов и бомбёжек, бесконечные перспективы ленинградских окраин, вода, множественность отражений, — мотивы, связанные с этими впечатлениями его детства и юности, неизменно присутствуют в его творчестве.
Юность.
В 1954 году Бродский подал заявление во Второе Балтийское училище (морское училище), но не был принят. В 1955 году в неполные шестнадцать лет, закончив семь классов и начав восьмой, Бродский бросил школу и поступил учеником фрезеровщика на завод «Арсенал». Это решение было связано как с проблемами в школе, так и с желанием Бродского финансово поддержать семью. Безуспешно пытался поступить в школу подводников. В 16 лет загорелся идеей стать врачом, месяц работал помощником прозектора в морге при областной больнице, анатомировал трупы, но в конце концов отказался от медицинской карьеры. Кроме того, в течение пяти лет после ухода из школы он работал истопником в котельной, матросом на маяке. Среднее образование он получил в школе рабочей молодёжи. Майкл Шапиро, нью-йоркский публицист и композитор, в книге «Сто великих евреев» утверждает, что Бродский учился в школе рабочей молодёжи, однако аттестата об окончании школы не получил.
С 1957 года был рабочим в геологических экспедициях НИИГА: в 1957 и 1958 годах — на Белом море, в 1959 и 1961 годах — в Восточной Сибири и в Северной Якутии, на Анабарском щите. Летом 1961 года в эвенкийском посёлке Нелькан в период вынужденного безделья (не было оленей для дальнейшего похода) у него произошёл нервный срыв, и ему разрешили вернуться в Ленинград.
В то же время он очень много, но хаотично читал — в первую очередь поэзию, философскую и религиозную литературу, начал изучать английский и польский языки.
В 1959 году знакомится с Евгением Рейном, Анатолием Найманом, Владимиром Уфляндом, Булатом Окуджавой, Сергеем Довлатовым. В 1959—1960 годах близко сходится с молодыми поэтами из «промки» — литературного объединения при Дворце культуры промкооперации (позднее Ленсовета).
14 февраля 1960 года состоялось первое крупное публичное выступление на «турнире поэтов» в ленинградском Дворце культуры имени Горького с участием А. С. Кушнера, Г. Я. Горбовского, В. А. Сосноры. Чтение стихотворения «Еврейское кладбище» вызвало скандал.
С 1960 года (а возможно, и раньше) Бродский находился в поле внимания ленинградского КГБ. В 1960 году его вызывали на допрос КГБ в связи с арестом Александра Гинзбурга, которого осудили на два года лагерей и который ранее опубликовал в своём самиздатском журнале поэзии «Синтаксис» пять стихотворений Бродского («Синтаксис» оказался первым из самиздатских журналов, приобретшим широкую известность). Стихотворения, публиковавшиеся в «Синтаксисе», в том числе и стихотворения Бродского, с идеологической точки зрения были для советской цензуры слишком индивидуалистическими или пессимистическими, но прямой критики советской власти и призывов к её свержению в них не было.
Во время поездки в Самарканд в декабре 1960 года Бродский и его друг, бывший лётчик Олег Шахматов, рассматривали план захвата самолёта, чтобы улететь за границу. Но на это они не решились. Позднее Шахматов был арестован за незаконное хранение оружия и сообщил в КГБ об этом плане, а также о другом своём друге, Александре Уманском, и его «антисоветской» рукописи, которую Шахматов и Бродский пытались передать случайно встреченному американцу. 29 января 1962 года Бродский был задержан КГБ, но через двое суток его освободили. Арестовали его в связи с делом Уманского и Шахматова, обвинённых в нарушении статьи 70 УК РСФСР («Антисоветская агитация и пропаганда»). После этого недолгого ареста Бродский подвергался слежке.
На рубеже 1960—1961 годов он приобрёл известность на ленинградской литературной сцене. По свидетельству Давида Шраера-Петрова: «В апреле 1961 года я вернулся из армии. Илья Авербах, которого я встретил на Невском проспекте, заявил: „В Ленинграде появился гениальный поэт Иосиф Бродский. <…> Ему всего двадцать один год. Пишет по-настоящему один год. Его открыл Женька Рейн“». В августе 1961 года в Комарове Евгений Рейн познакомил Бродского с Анной Ахматовой. В 1962 году во время поездки в Псков он познакомился с Надеждой Мандельштам, а в 1963 году у Ахматовой — с Лидией Чуковской. После смерти Ахматовой в 1966 году с лёгкой руки Д. Бобышева четверо молодых поэтов, в их числе и Бродский, в мемуарной литературе нередко упоминались как «ахматовские сироты».
С детства Бродский страдал невротическими проблемами (фобии, заикание). С 1962 года он состоял на учёте в психоневрологическом диспансере с диагнозом «психопатия» («расстройство личности»), в том же году медицинская комиссия вынесла заключение, что он «негоден к военной службе в мирное время, в военное время годен к нестроевой службе по ст. 8 „в“, 30 „в“ (неврозы, заболевание сердца)».
Муза поэта.
В 1962 году двадцатидвухлетний Бродский встретил молодую художницу Марину (Марианну) Басманову, дочь художника П. И. Басманова. С этого времени Марианне Басмановой, скрытой под инициалами «М. Б.», посвящались многие произведения поэта. Как пишет биограф Бродского Лев Лосев, «стихи, посвящённые „М. Б.“, занимают центральное место в лирике Бродского не потому, что они лучшие — среди них есть шедевры и есть стихотворения проходные, — а потому, что эти стихи и вложенный в них духовный опыт были тем горнилом, в котором выплавилась его поэтическая личность».
Первые стихотворения с этим посвящением — «Я обнял эти плечи и взглянул…», «Ни тоски, ни любви, ни печали…», «Загадка ангелу» — датируются 1962 годом. Сборник стихотворений И. Бродского «Новые стансы к Августе» (США, Мичиган: Ardis, 1983) составлен из его стихотворений 1962—1982 годов, посвящённых «М. Б.». Последнее стихотворение с посвящением «М. Б.» датировано 1989 годом.
8 октября 1967 года у Марианны Басмановой и Иосифа Бродского родился сын, Андрей Осипович Басманов. В 1972—1995 годах М. П. Басманова и И. А. Бродский состояли в переписке.
Ранние стихи и влияния.
По собственным словам, Бродский начал писать стихи в восемнадцать лет, однако существует несколько стихотворений, датированных 1956—1957 годами. Одним из решающих толчков стало знакомство с поэзией Бориса Слуцкого. «Пилигримы», «Памятник Пушкину», «Рождественский романс» — наиболее известные из ранних стихов Бродского. Для многих из них характерна ярко выраженная музыкальность. Так, в стихотворениях «От окраины к центру» и «Я — сын предместья, сын предместья, сын предместья…» можно увидеть ритмические элементы джазовых импровизаций. Цветаева и Баратынский, а несколькими годами позже — Мандельштам, оказали на него, по словам самого Бродского, определяющее влияние.
Из современников на него повлияли Евгений Рейн, Глеб Горбовский, Владимир Уфлянд, Станислав Красовицкий.
Позднее Бродский называл величайшими поэтами Одена и Цветаеву, за ними следовали Кавафис и Фрост, замыкали личный канон поэта Рильке, Пастернак, Мандельштам и Ахматова.
Первым опубликованным стихотворением Бродского стала «Баллада о маленьком буксире», напечатанная в сокращённом виде в детском журнале «Костёр» (№ 11, 1962).
Преследования, суд и высылка.
Травля.
29 ноября 1963 года в газете «Вечерний Ленинград» появилась статья «Окололитературный трутень», подписанная Я. Лернером и двумя штатными сотрудниками газеты: Медведевым и Иониным. Авторы статьи клеймили Бродского за «паразитический образ жизни», «формализм» и «упадочничество». Из стихотворных цитат, приписываемых авторами Бродскому, две были взяты из стихов Бобышева, а третья, из поэмы Бродского «Шествие», представляла собой строки из баллады Лжеца, одного из персонажей «Шествия», который по сюжету противоречит сам себе. Эти строки авторы фельетона исказили. Кроме того, стихотворение «Люби проездом родину друзей…» было исковеркано авторами фельетона: первую строчку «Люби проездом родину друзей» и последнюю «Жалей проездом родину чужую» они объединили в одну: «Люблю я родину чужую». В заключительной части статьи утверждалось: «Он продолжает вести паразитический образ жизни. Здоровый 26-летний парень около четырёх лет не занимается общественно полезным трудом» (на самом деле Бродскому на тот момент было не 26, а 23 года).
Между тем к моменту публикации статьи Лернера, Медведева и Ионина Бродский начал зарабатывать литературным трудом: в журнале «Костёр» была напечатана «Баллада о маленьком буксире», осенью 1962 года и в 1963 году в издательстве «Художественная литература» вышли несколько его переводов кубинских поэтов и поэтов Югославии, и Бродский успел подписать договоры с тем же издательством на новые переводы, однако стараниями Я. Лернера новые заказы на переводы Бродского оказались аннулированы. Кроме того, по договору от мая 1963 года с Ленинградской студией телевидения Бродский написал сценарий для документального фильма «Баллада о маленьком буксире», одобренный и принятый к постановке.
Владимир Марамзин, знакомый Бродского, впоследствии писал, что «за год (не самый худший) Иосиф Бродский, работая ежедневно над своими стихами и над переводами, как галерный раб, заработал всего лишь 170 рублей (столько в те годы зарабатывал, скажем, инженер — но только за месяц, а не за год)» и что «Иосиф в России был беден, как церковная крыса. Он жил у родителей… которые кормили его».
Было очевидно, что статья Лернера, Медведева и Ионина является сигналом к преследованиям и, возможно, аресту Бродского. В конце декабря 1963 года друзья Бродского с его согласия устроили его на обследование в Московскую психиатрическую больницу им. Кащенко, надеясь, что диагноз психического расстройства спасёт поэта от уголовного преследования. Однако Бродский провёл в психиатрической больнице лишь несколько дней (до 2 января 1964 года): он испугался, что пребывание там сведёт его с ума, и попросил друзей вызволить его оттуда. Диагноз при выписке из больницы им. Кащенко был «шизоидная психопатия» (то есть шизоидное расстройство личности).
В это время больше, чем клевета, последующий арест, суд и приговор, мысли Бродского занимал разрыв с Марианной Басмановой. На этот период приходится попытка самоубийства: через несколько дней после выхода из больницы и возвращения в Ленинград Бродский попытался перерезать себе вены.
17 декабря 1963 года Я. Лернер на заседании секретариата Союза писателей зачитал письмо прокурора Дзержинского района о предании Бродского общественному суду. Правление ленинградского Союза писателей согласилось предать Бродского общественному суду, а также вынесло решение «просить прокурора возбудить против Бродского и его „друзей“ уголовное дело».
8 января 1964 года «Вечерний Ленинград» опубликовал подборку писем читателей с требованиями наказать «тунеядца Бродского». 13 февраля 1964 года Бродского арестовали по обвинению в тунеядстве. 14 февраля у него случился в камере сердечный приступ. С этого времени Бродский постоянно страдал стенокардией (что вместе с тем не мешало ему оставаться заядлым курильщиком).
Процесс.
18 февраля 1964 года состоялось первое слушание дела Бродского. Его судили не по статье уголовного кодекса, а по указу Президиума Верховного Совета РСФСР от 4 мая 1961 года «Об усилении борьбы с лицами, уклоняющимися от общественно полезного труда и ведущими антиобщественный паразитический образ жизни», то есть дело рассматривалось в административном порядке, поэтому уголовное дело не возбуждалось и не было ни предварительного следствия, ни прокурора. Суд проходил в здании на улице Восстания.
Адвокат Бродского З. Н. Топорова на суде приводила аргументы о том, что Бродского нельзя считать тунеядцем, что его даже не обвиняют в ведении антиобщественного образа жизни и у него есть свой заработок; судья Савельева (выполнявшая функции не только судьи, но и прокурора) отказывалась признавать Бродского литератором, а его литературный труд — полноценным трудом. По сути, Бродского обвиняли не в том, что он не работает, а в том, что у него малые заработки (хотя в действительности это по советским законам нельзя было квалифицировать как уголовно наказуемое поведение).
Суд обвинял Бродского также в том, что он «писал „ущербные и упаднические стихи“, которые с помощью своих друзей распространял среди молодёжи Ленинграда и Москвы, а кроме того, организовывал литературные вечера, на которых пытался противопоставить себя как поэта нашей советской действительности».
Судья: А вообще какая ваша специальность?
Бродский: Поэт. Поэт-переводчик.
Судья: А кто это признал, что вы поэт? Кто причислил вас к поэтам?
Бродский: Никто. (Без вызова.) А кто причислил меня к роду человеческому?
Судья: А вы учились этому?
Бродский: Чему?
Судья: Чтобы быть поэтом? Не пытались кончить вуз, где готовят… где учат…
Бродский: Я не думал, что это дается образованием.
Судья: А чем же?
Бродский: Я думаю, это… (растерянно) от Бога…
В ходе первого слушания суд постановил направить Бродского на принудительную судебно-психиатрическую экспертизу (защита рассчитывала благодаря экспертизе добиться для Бродского как можно более мягкого наказания, однако, вопреки просьбе защиты, Бродского обследовали не амбулаторно, а в психиатрической больнице). На «Пряжке» (психиатрическая больница № 2 в Ленинграде) Бродский провёл три недели. По воспоминанию Бродского, в психиатрической больнице к нему применяли «укрутку»: «Глубокой ночью будили, погружали в ледяную ванну, заворачивали в мокрую простыню и помещали рядом с батареей. От жара батарей простыня высыхала и врезалась в тело». Этот период своей жизни Бродский считал самым тяжёлым. Заключение экспертизы гласило: «В наличии психопатические черты характера, но трудоспособен. Поэтому могут быть применены меры административного порядка».
13 марта 1964 года состоялось второе заседание суда. Народный суд проходил в помещении клуба 15-го ремонтно-строительного управления Ленинграда (дворовый флигель дома № 22 на набережной реки Фонтанки). Адвокат Бродского сказала в своей речи: «Ни один из свидетелей обвинения Бродского не знает, стихов его не читал; свидетели обвинения дают показания на основании каких-то непонятным путём полученных и непроверенных документов и высказывают своё мнение, произнося обвинительные речи».
Свидетелей защиты было трое: поэт Н. И. Грудинина и два профессора-филолога, работавшие в педагогическом институте имени Герцена, оба известные переводчики — Е. Г. Эткинд и В. Г. Адмони. Будучи специалистами в области поэзии и поэтического перевода, они объясняли суду, что сочинение и переводы стихов — нелёгкий труд, для которого требуется особый талант и профессиональные знания, что эту работу Бродский выполнял талантливо и квалифицированно. И Грудинина, и Эткинд, и Адмони были знакомы с Бродским, на суде они отзывались о нём тепло и с уважением.
Общественным обвинителем выступил представитель штаба народной дружины Дзержинского района Ф. Сорокин. Свидетелей обвинения было шестеро: член Союза писателей Е. В. Воеводин, завкафедрой Художественного училища им. Мухиной, преподаватель марксизма-ленинизма Р. Ромашова, начальник Дома обороны Н. Смирнов, сотрудник хозчасти Эрмитажа П. Логунов, рабочий-трубоукладчик УНР-20 П. Денисов и пенсионер Николаев. Все шестеро сообщали в своих показаниях, что с Бродским лично не знакомы; в своих речах они использовали обвинения из пасквиля Лернера, Ионина и Медведева, опубликованного в «Вечернем Ленинграде». Свидетели обвинения утверждали также, что стихи Бродского вредно влияют на молодёжь; они упрекали Бродского за то, что он не служил в армии, и за связь с Шахматовым и Уманским. Свидетели Смирнов и Николаев заявляли, что Бродскому принадлежат антисоветские стихи, Воеводин — что «Бродский отрывает молодёжь от труда, от мира и жизни».
Во время второго заседания суда 13 марта, как и во время первого, диалог Бродского и судьи Савельевой проходил в стилистике театра абсурда:
Судья: Значит, вы думаете, что ваши так называемые стихи приносят людям пользу?
Бродский: А почему вы говорите про стихи «так называемые»?
Судья: Мы называем ваши стихи «так называемые» потому, что иного понятия о них у нас нет.
На втором заседании суда Бродский был приговорён к максимально возможному по указу о «тунеядстве» наказанию — пяти годам принудительного труда в отдалённой местности. Анна Ахматова, узнав о суде и приговоре, сказала: «Какую биографию делают нашему рыжему! Как будто он кого-то нарочно нанял».
Суд также вынес частное определение в отношении свидетелей защиты Грудининой, Эткинда и Адмони за высказывание ими собственных мнений о личности и творчестве Бродского. В частном определении говорилось, что они «пытались представить в суде пошлость и безыдейность его стихов как талантливое творчество, а самого Бродского как непризнанного гения. Такое поведение Грудининой, Эткинда и Адмони свидетельствует об отсутствии у них идейной зоркости и партийной принципиальности». 20 марта 1964 года секретариат и партийное бюро Ленинградского отделения Союза писателей ещё до получения ими этого частного определения суда обсуждали на совместном заседании поведение в суде Грудининой, Эткинда и Адмони; постановлением секретариата от 26 марта Грудинину отстранили от работы с молодыми писателями, а Эткинду и Адмони был объявлен выговор.
Выступление Эткинда на суде в защиту Бродского, а также его контакты с Солженицыным и Сахаровым привели к преследованиям со стороны властей: в 1974 году его изгнали с кафедры, лишили всех научных степеней и званий, исключили из Союза писателей и запретили печататься. Так он потерял какую-либо возможность устроиться на работу и был вынужден уехать из СССР.
В ссылке.
Из знаменитой тюрьмы «Кресты» он был направлен в столыпинском вагоне в Архангельск, также несколько дней провёл на пересылке в тюрьме Вологды. Бродский был сослан в Коношский район Архангельской области и поселился в деревне Норенская (Норинская), в которой прожил полтора года (с 25 марта 1964 по 4 сентября 1965 года). Он устроился разнорабочим в совхоз «Даниловский», где занимался полевыми работами, был бондарем, кровельщиком, доставлял брёвна с лесосек к местам погрузки и др.
Биограф Бродского Лев Лосев отмечал, что для Бродского «тюрьма, издевательства конвоиров» явились «нелёгким испытанием, а вот жизнь в ссылке оказалась не страшна». Сам Бродский утверждал, что ссылка оказалась одним «из лучших периодов моей жизни. Бывали и не хуже, но лучше — пожалуй, не было». Домик, в котором жил Бродский, представлял собой бревенчатый сруб, где почти отсутствовала мебель, но можно было отгородиться от остального мира, думать и творить.
По воспоминанию В. М. Гиндилиса, посетившего Бродского в ссылке, каморка, в которой жил Бродский, была очень маленькой («Почти всё пространство занимал топчан, на котором он спал»), часть окна из-за отсутствия стекла «была заткнута неким подобием подушки»; комната не отапливалась, и в ней было очень холодно. Бродский в тот период, когда его навестил Гиндилис, занимался тяжёлой физической работой — перетаскивал вместе со своим напарником огромные каменные валуны, которые приходилось убирать с поля после вырубки леса. В перспективе такой физический труд мог, по оценке Гиндилиса, угрожать здоровью и жизни Бродского, страдавшего сердечной патологией.
В ссылке Бродский изучал английскую поэзию, в том числе творчество Уистена Одена:
Я помню, как сидел в маленькой избе, глядя через квадратное, размером с иллюминатор, окно на мокрую, топкую дорогу с бродящими по ней курами, наполовину веря тому, что я только что прочёл… Я просто отказывался верить, что ещё в 1939 году английский поэт сказал:
«Время… боготворит язык», а мир остался прежним.— «Поклониться тени»
За время реального отбывания наказания (полтора года) Бродский четыре раза уезжал в отпуск в Ленинград. Навестить его приезжала Басманова, а во время своей третьей побывки в Ленинграде Бродский чуть не уехал в Москву, к Басмановой, что грозило бы ему арестом и увеличением срока ссылки, но сопровождавший Бродского друг удержал его от этого рискованного шага.
Наряду с обширными поэтическими публикациями в эмигрантских изданиях («Воздушные пути», «Новое русское слово», «Посев», «Грани» и др.), в августе и сентябре 1965 года два стихотворения Бродского были опубликованы в коношской районной газете «Призыв».
Отзывы о процессе и его восприятие.
Как отмечал биограф Бродского Л. Лосев, в действительности Бродский не являлся тунеядцем по советским законам: хотя частую смену места работы в то время не поощряли, тем не менее указ о борьбе с тунеядством, вышедший 4 мая 1961 года, был нацелен не на «летунов», а на лиц, вообще не работавших и живших на нетрудовые доходы (то есть занимавшихся мелкой спекуляцией, проституцией, нищенством), злоупотреблявших алкоголем, виновных в хулиганстве.
Л. Лосев также указывает, что «именно в этот момент наибольшей душевной уязвимости [которая вызвана была размолвкой с Марианной Басмановой] стечение обстоятельств сделало Бродского объектом полицейской травли», что 1963 год — год идеологической реакции и ужесточения государственной политики — и начало 1964 года стали крайне тяжёлым периодом для Бродского. Лосев упоминает и о том, что за деятельностью Я. Лернера, как и за уголовным преследованием Бродского, начавшимся в последующие месяцы, стояли партийные функционеры и КГБ.
По словам историка заместителя директора Государственного архива РФ Владимира Козлова, «…в середине 60-х годов, до и после снятия Хрущёва, идёт поиск наиболее эффективных мер воздействия на инакомыслящих, соблюдая при этом правила игры в социалистическую законность. <…> Дело Бродского — это один из экспериментов местных властей, которым не нравится некая личность с её взглядами, убеждениями и представлениями, но которую по законам советской власти нельзя судить за эти убеждения и представления, ибо он не распространяет этих сведений… Значит,… эксперимент — судить Бродского за тунеядство».
Цитируя статью С. А. Лурье, Лосев писал, что «среди ленинградской интеллигенции утвердилось социально-психологическое объяснение того, почему жертвой показательных репрессий был выбран Бродский. Оно сводится к тому, что сработало некое „коллективное бессознательное“ государства, учуявшего опасность в том уровне духовной свободы, на который Бродский выводил читателя даже аполитичными стихами. Его „стихи описывали недоступный для слишком многих уровень духовного существования… [они утоляли] тоску по истинному масштабу существования“».
Кандидат юридических наук Александр Кирпичников утверждает, что «процесс, на котором обвиняли Бродского, назвать судом нельзя. Это расправа над бескомпромиссным человеком, поэтом, запрограммированный от начала и до конца спектакль. Если бы на дворе был не 1964 год, а, скажем, 1948 или 1937, то Бродский исчез бы в лагере. <…> …Хотя сталинисты были по-прежнему сильны и влиятельны, но старыми методами действовать они уже не могли. Потребовалась организация такого вот суда».
Ольга Эдельман, историк, сотрудница Государственного архива РФ, отмечала, что «политическая подоплека дела» «очевидна»: «Вроде бы ясно, что власть попыталась использовать указ о тунеядцах для борьбы с инакомыслящими, но, столкнувшись с выступлениями видных советских писателей, а главное — испугавшись международного скандала, отыграла назад» (имеется в виду досрочное — через полтора года — освобождение Бродского).
Известный историк Александр Шубин, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН, профессор Государственного академического университета гуманитарных наук и Российского государственного гуманитарного университета, писал, что дело Бродского явилось «важным прецедентом, напоминавшим о сталинских временах — уголовным осуждением писателя в связи с его творчеством» и что это дело «поразило интеллигенцию демонстративным произволом власти, игнорированием юридических норм и мнения специалистов в тех вопросах, где простой „человек из народа“ не может разбираться просто из-за отсутствия специального образования» (в защиту Бродского выступили литературоведы и переводчики, а свидетели обвинения, выступавшие на суде, не разбирались в поэзии).
Суд над поэтом стал одним из факторов, приведших к возникновению правозащитного движения в СССР и к усилению внимания за рубежом к ситуации в области прав человека в СССР. Этот судебный процесс оказался для многих символом суда «черни тупой», бюрократов над Поэтом и явился доказательством того, что свобода слова в СССР по-прежнему невозможна. Запись суда, сделанная Фридой Вигдоровой, стала аргументом большого значения не только в судьбе Бродского, но и в истории России; эта запись за несколько месяцев распространилась в самиздате, попала за рубеж и была опубликована во влиятельных зарубежных изданиях: «New Leader», «Encounter», «Figaro Litteraire», читалась по Би-би-си.
Освобождение.
При активном участии Ахматовой велась общественная кампания в защиту Бродского. Центральными фигурами в ней были Фрида Вигдорова и Лидия Чуковская. На протяжении полутора лет они неутомимо писали письма в защиту Бродского во все партийные и судебные инстанции и привлекали к делу защиты Бродского людей, пользующихся влиянием в советской системе:
Д. Д. Шостаковича, С. Я. Маршака, К. И. Чуковского, К. Г. Паустовского,
А. Т. Твардовского, Ю. П. Германа, К. А. Федина и других. По прошествии полутора лет, под давлением советской и мировой общественности прокуратура СССР через ЦК КПСС добилась пересмотра дела Бродского в Верховном суде РСФСР. В результате судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РСФСР определением от 4 сентября 1965 года сократила срок ссылки до полутора лет, и в сентябре Бродский вернулся в Ленинград.
По мнению Я. Гордина, «хлопоты корифеев советской культуры никакого влияния на власть не оказали. Решающим было предупреждение „друга СССР“ Жана-Поля Сартра, что на Европейском форуме писателей советская делегация из-за „дела Бродского“ может оказаться в трудном положении».
В октябре 1965 года Бродский по рекомендации Корнея Чуковского и Бориса Вахтина был принят в Группком переводчиков при Ленинградском отделении Союза писателей СССР, что позволило в дальнейшем избежать новых обвинений в тунеядстве.
Бродский противился навязываемому ему — особенно западными средствами массовой информации — образу борца с советской властью. В частности, он утверждал: «Мне повезло во всех отношениях. Другим людям доставалось гораздо больше, приходилось гораздо тяжелее, чем мне». И даже: «… я-то считаю, что я вообще всё это заслужил». В «Диалогах с Иосифом Бродским» Соломона Волкова Бродский говорит по поводу записи суда Фридой Вигдоровой: «Не так уж это всё и интересно, Соломон. Поверьте мне», — на что Волков возражает:
СВ: Вы оцениваете это так спокойно сейчас, задним числом! И, простите меня, этим тривиализируете значительное и драматичное событие. Зачем?
ИБ: Нет, я не придумываю! Я говорю об этом так, как на самом деле думаю! И тогда я думал так же. Я отказываюсь всё это драматизировать!
Последние годы на родине.
Бродский был арестован и отправлен в ссылку двадцатитрёхлетним юношей, а вернулся двадцатипятилетним сложившимся поэтом. Оставаться на родине ему было отведено менее семи лет. Наступила зрелость, прошло время принадлежности к тому или иному кругу. В марте 1966 года умерла Анна Ахматова. Ещё ранее начал распадаться окружавший её «волшебный хор» молодых поэтов. Положение Бродского в официальной советской культуре в эти годы можно сравнить с положением Ахматовой в 1920—1930-е годы или Мандельштама в период, предшествовавший его первому аресту.
В конце 1965 года Бродский сдал в Ленинградское отделение издательства «Советский писатель» рукопись своей книги «Зимняя почта (стихи 1962—1965)». Год спустя, после многомесячных мытарств и несмотря на многочисленные положительные внутренние рецензии, рукопись была возвращена издательством. «Судьба книги решалась не в издательстве. В какой-то момент обком и КГБ решили в принципе перечеркнуть эту идею».
В 1966—1967 годах в советской печати появилось четыре стихотворения поэта (не считая публикаций в детских журналах), после этого наступил период публичной немоты. С точки зрения читателя единственной областью поэтической деятельности, доступной Бродскому, остались переводы. «Такого поэта в СССР не существует», — заявило в 1968 году советское посольство в Лондоне в ответ на посланное Бродскому приглашение принять участие в международном поэтическом фестивале Poetry International.
Между тем это были годы интенсивного поэтического труда, результатом которого стали стихи, позднее включённые в вышедшие в США книги: «Остановка в пустыне», «Конец прекрасной эпохи» и «Новые стансы к Августе». В 1965—1968 годах шла работа над поэмой «Горбунов и Горчаков» — произведением, которому сам Бродский придавал очень большое значение. Помимо нечастых публичных выступлений и чтения на квартирах приятелей, стихи Бродского довольно широко расходились в самиздате (с многочисленными неизбежными искажениями — копировальной техники в те годы не существовало). Возможно, более широкую аудиторию они получили благодаря песням, написанным Александром Мирзаяном и Евгением Клячкиным.
Внешне жизнь Бродского в эти годы складывалась относительно спокойно, но КГБ не оставлял его без внимания. Этому способствовало и то, что «поэт становится чрезвычайно популярен у иностранных журналистов, учёных-славистов, приезжающих в Россию. У него берут интервью, его приглашают в западные университеты (естественно, что разрешения на выезд власти не дают) и т. п.». Помимо переводов, к работе над которыми он относился очень серьёзно, Бродский подрабатывал и другими доступными для литератора, исключённого из «системы», способами: внештатным рецензентом в журнале «Аврора», случайными «халтурами» на киностудиях, даже снимался (в роли секретаря горкома партии) в фильме «Поезд в далёкий август».
За рубежами СССР стихотворения Бродского продолжают появляться как на русском, так и в переводах, прежде всего на английском, польском и итальянском языках. В 1967 году в Англии вышел неавторизированный сборник переводов «Joseph Brodsky. Elegy to John Donne and Other Poems / Tr. by Nicholas Bethell». В 1970 году в Нью-Йорке выходит «Остановка в пустыне» — первая книга Бродского, составленная под его контролем. Стихотворения и подготовительные материалы к книге тайно вывозились из России или, как в случае с поэмой «Горбунов и Горчаков», пересылались на Запад дипломатической почтой.
Частично эта книга Бродского включала в себя первую («Стихотворения и поэмы», 1965), хотя по настоянию автора двадцать два стихотворения из ранней книжки в «Остановку» не вошли. Зато прибавилось около тридцати новых вещей, написанных между 1965 и 1969 годами. В «Остановке в пустыне» стояло имя Макса Хейуорда как главного редактора издательства. Фактическим редактором книги у них считался я, но мы… решили, что лучше моего имени не упоминать, поскольку начиная с 1968 года, главным образом из-за моих контактов с Бродским, меня взял на заметку КГБ. Сам-то я считал, что подлинным редактором был Бродский, так как это он отобрал, что включить в книгу, наметил порядок стихотворений и дал названия шести разделам.— Джордж Л. Клайн. История двух книг.
В 1971 году Бродский был избран членом Баварской академии изящных искусств.
В эмиграции.
Отъезд.
10 мая 1972 года Бродского вызвали в ОВИР и поставили перед выбором: немедленная эмиграция или «горячие денёчки», такая метафора в устах КГБ могла означать допросы, тюрьмы и психбольницы. К тому времени ему уже дважды — зимой 1963—1964 годов — приходилось лежать на «обследовании» в психиатрических больницах, что было, по его словам, страшнее тюрьмы и ссылки. Бродский принимает решение об отъезде. Узнав об этом, Владимир Марамзин предложил ему собрать всё написанное для подготовки самиздатского собрания сочинений. Результатом стало первое и до 1992 года единственное собрание сочинений Иосифа Бродского — разумеется, машинописное. Перед отъездом он успел утвердить для публикации все 4 тома. Избрав эмиграцию, Бродский пытался оттянуть день отъезда, но власти хотели избавиться от неугодного поэта как можно быстрее. 4 июня 1972 года лишённый советского гражданства Бродский вылетел из Ленинграда по «израильской визе» и по предписанному еврейской эмиграции маршруту — в Вену. Спустя 3 года он писал:
Дуя в полую дудку, что твой факир,
я прошёл сквозь строй янычар в зелёном,
чуя яйцами холод их злых секир,
как при входе в воду. И вот, с солёным
вкусом этой воды во рту,
я пересёк черту…— Колыбельная Трескового Мыса (1975)
О последующем, отказываясь драматизировать события своей жизни, Бродский вспоминал с изрядной лёгкостью:
Самолёт приземлился в Вене, и там меня встретил Карл Проффер… он спросил: «Ну, Иосиф, куда ты хотел бы поехать?» Я сказал: «О Господи, понятия не имею»… и тогда он спросил: «А как ты смотришь на то, чтобы поработать в Мичиганском университете?»
Иное освещение этим словам дают воспоминания близко знавшего Бродского Шеймаса Хини в его статье, опубликованной через месяц после смерти поэта:
«События 1964—1965 гг. сделали его чем-то вроде знаменитости и гарантировали известность в самый момент его прибытия на Запад; но вместо того чтобы воспользоваться статусом жертвы и плыть по течению „радикального шика“, Бродский сразу приступил к работе в качестве преподавателя в Мичиганском университете. Вскорости его известность основывалась уже не на том, что он успел совершить на своей старой родине, а на том, что он делал на новой».— Seamus Heaney. The Singer of Tales: On Joseph Brodsky
Через два дня по приезде в Вену Бродский отправляется знакомиться к живущему в Австрии У. Одену. «Он отнёсся ко мне с необыкновенным участием, сразу взял под свою опеку… взялся ввести меня в литературные круги». Вместе с Оденом Бродский в конце июня принимает участие в Международном фестивале поэзии (Poetry International) в Лондоне. С творчеством Одена Бродский был знаком со времён своей ссылки и называл его, наряду с Ахматовой, поэтом, оказавшим на него решающее «этическое влияние». Тогда же в Лондоне Бродский знакомится с Исайей Берлином, Стивеном Спендером, Шеймасом Хини и Робертом Лоуэллом.
Линия жизни.
В июле 1972 года Бродский переехал в США и принял пост «приглашённого поэта» (poet-in-residence) в Мичиганском университете в Энн-Арборе, где преподавал с перерывами до 1980 года. С этого момента закончивший в СССР неполные 8 классов средней школы Бродский вёл жизнь университетского преподавателя, занимая на протяжении последующих 24 лет профессорские должности в общей сложности в шести американских и британских университетах, в том числе в Колумбийском и в Нью-Йоркском. Он преподавал историю русской литературы, русскую и мировую поэзию, теорию стиха, выступал с лекциями и чтением стихов на международных литературных фестивалях и форумах, в библиотеках и университетах США, в Канаде, Англии, Ирландии, Франции, Швеции, Италии. Уже после получения Нобелевской премии на вопрос студентов, зачем он до сих пор преподаёт (ведь уже не ради денег), Бродский ответит: «Просто я хочу, чтобы вы полюбили то, что люблю я».
«Преподавал» в его случае нуждается в пояснениях. Ибо то, что он делал, было мало похоже на то, что делали его университетские коллеги, в том числе и поэты. Прежде всего, он просто не знал, как «преподают». Собственного опыта у него в этом деле не было… Каждый год из двадцати четырёх на протяжении по крайней мере двенадцати недель подряд он регулярно появлялся перед группой молодых американцев и говорил с ними о том, что сам любил больше всего на свете — о поэзии… Как назывался курс, было не так уж важно: все его уроки были уроками медленного чтения поэтического текста…— Лев Лосев.
С годами состояние его здоровья неуклонно ухудшалось, и Бродский, чей первый сердечный приступ пришёлся на тюремные дни 1964 года, перенёс 4 инфаркта в 1976, 1985 и 1994 годах. Вот свидетельство врача (В. М. Гиндилиса), посетившего Бродского в первый месяц Норинской ссылки:
Ничего остро угрожающего в тот момент в его сердце не было, кроме слабо выраженных признаков так называемой дистрофии сердечной мышцы. Однако было бы удивительно их отсутствие при том образе жизни, который у него был в этом леспромхозе… Представьте себе большое поле после вырубки таёжного леса, на котором среди многочисленных пней разбросаны огромные каменные валуны… Некоторые из таких валунов превышают размером рост человека. Работа состоит в том, чтобы перекатывать с напарником такие валуны на стальные листы и перемещать их к дороге… Три-пять лет такой ссылки — и вряд ли кто-либо сегодня слышал о поэте… ибо его генами было предписано, к сожалению, иметь ранний атеросклероз сосудов сердца. А бороться с этим, хотя бы частично, медицина научилась лишь тридцать лет спустя.
Родители Бродского двенадцать раз подавали заявление с просьбой разрешить им повидать сына, с просьбой позволить им посетить Бродского обращались к правительству СССР также конгрессмены и видные деятели культуры США. Однако даже после того, как Бродский в 1978 году перенёс операцию на открытом сердце и стал нуждаться в уходе, его родителям было отказано в выездной визе. Сына они больше не увидели. Мать Бродского умерла в 1983 году, немногим более года спустя умер отец. Оба раза Бродскому не позволили приехать на похороны. Родителям посвящены его книга «Часть Речи» (1977), стихотворения «Мысль о тебе удаляется, как разжалованная прислуга…» (1985), «Памяти отца: Австралия» (1989), эссе «Полторы комнаты» (1985).
В 1977 году Бродский принял американское гражданство, в 1980 окончательно перебрался из Энн-Арбора в Нью-Йорк, в дальнейшем делил своё время между Нью-Йорком и Саут-Хэдли (англ.)рус., университетским городком в штате Массачусетс, где с 1982 года и до конца жизни он преподавал по весенним семестрам в консорциуме «пяти колледжей». В 1990 году Бродский женился на Марии Соццани, итальянской аристократке, русской по материнской линии. В 1993 году у них родилась дочь Анна.
Поэт и эссеист.
Стихи Бродского и их переводы печатались за пределами СССР с 1964 года, когда его имя стало широко известно благодаря публикации записи суда над поэтом. С момента его приезда на Запад его поэзия регулярно появляется на страницах изданий русской эмиграции. Едва ли не чаще, чем в русскоязычной прессе, публикуются переводы стихов Бродского, прежде всего в журналах США и Англии, а в 1973 году появляется и книга избранных переводов. Но новые книги стихов на русском выходят только в 1977 году — это «Конец прекрасной эпохи», включивший стихотворения 1964—1971 годов, и «Часть речи», в которую вошли произведения, написанные в 1972—1976 годах. Причиной такого деления были не внешние события (эмиграция) — осмысление изгнанничества как судьбоносного фактора было чуждо творчеству Бродского, — а то, что, по его мнению, в 1971—1972 годах в его творчестве происходят качественные изменения. На этом переломе написаны «Натюрморт», «Одному тирану», «Одиссей Телемаку», «Песня невинности, она же опыта», «Письма римскому другу», «Похороны Бобо». В стихотворении «1972 год», начатом в России и законченном за её пределами, Бродский даёт следующую формулу: «Всё, что творил я, творил не ради я / славы в эпоху кино и радио, / но ради речи родной, словесности…». Название сборника — «Часть речи» — объясняется этим же посылом, лапидарно сформулированным в его Нобелевской лекции: «кто-кто, а поэт всегда знает <…> что не язык является его инструментом, а он — средством языка».
В 1970-е и 1980-е годы Бродский, как правило, не включал в свои новые книги стихотворений, вошедших в более ранние сборники. Исключением является вышедшая в 1983 году книга «Новые стансы к Августе», составленная из стихотворений, обращённых к М. Б. — Марине Басмановой. Годы спустя Бродский говорил об этой книге: «Это главное дело моей жизни <…> мне представляется, что в итоге „Новые стансы к Августе“ можно читать, как отдельное произведение. К сожалению, я не написал „Божественной комедии“. И, видимо, уже никогда её не напишу. А тут получилась в некотором роде поэтическая книжка со своим сюжетом…». «Новые стансы к Августе» стала единственной книгой поэзии Бродского на русском языке, составленной самим автором.
С 1972 года Бродский активно обращается к эссеистике, которую не оставляет до конца жизни. В США выходят три книги его эссе: «Less Than One» («Меньше единицы») в 1986 году, «Watermark» («Набережная неисцелимых») в 1992 году и «On Grief and Reason» («О скорби и разуме») в 1995 году. Большая часть эссе, вошедших в эти сборники, была написана на английском. Его проза, по крайней мере в неменьшей степени, нежели его поэзия, сделала имя Бродского широко известным миру за пределами СССР. Американским Национальным советом литературных критиков сборник «Less Than One» был признан лучшей литературно-критической книгой США за 1986 год. К этому времени Бродский был обладателем полудюжины званий члена литературных академий и почётного доктора различных университетов, являлся лауреатом стипендии Мак-Артура 1981 года.
Следующая большая книга стихов — «Урания» — вышла в свет в 1987 году. В этом же году Бродский стал лауреатом Нобелевской премии по литературе, которая была присуждена ему «за всеобъемлющее творчество, проникнутое ясностью мысли и поэтической интенсивностью» («for an all-embracing authorship, imbued with clarity of thought and poetic intensity»). Свою написанную на русском нобелевскую речь, в которой он сформулировал личное и поэтическое кредо, 47-летний Бродский начал словами:
Для человека частного и частность эту всю жизнь какой-либо общественной роли предпочитавшего, для человека, зашедшего в предпочтении этом довольно далеко — и в частности от родины, ибо лучше быть последним неудачником в демократии, чем мучеником или властителем дум в деспотии, — оказаться внезапно на этой трибуне — большая неловкость и испытание.
В 1990-е годы выходят четыре книги новых стихов Бродского: «Примечания папоротника», «Каппадокия», «В окрестностях Атлантиды» и изданный в Ардисе уже после смерти поэта и ставший итоговым сборник «Пейзаж с наводнением».
Несомненный успех поэзии Бродского как среди критиков и литературоведов, так и среди читателей имеет, вероятно, немало исключений. Пониженная эмоциональность, музыкальная и метафизическая усложнённость — особенно «позднего» Бродского — отталкивают и некоторых писателей. В частности, можно назвать работу Александра Солженицына, чьи упрёки творчеству поэта носят в значительной степени мировоззренческий характер. В подобном ключе отзывался о поэте критик из другого лагеря: Дмитрий Быков в своём эссе, посвящённом Бродскому, после зачина: «Я не собираюсь перепевать здесь расхожие банальности о том, что Бродский „холоден“, „однообразен“, „бесчеловечен“…», — далее, тем не менее, пишет: «В огромном корпусе сочинений Бродского поразительно мало живых текстов… Едва ли сегодняшний читатель без усилия дочитает „Шествие“, „Прощайте, мадемуазель Вероника“ или „Письмо в бутылке“ — хотя, несомненно, он не сможет не оценить „Часть речи“, „Двадцать сонетов к Марии Стюарт“ или „Разговор с небожителем“: лучшие тексты ещё живого, ещё не окаменевшего Бродского, вопль живой души, чувствующей своё окостенение, оледенение, умирание».
Последняя книга, составленная при жизни поэта, завершается следующими строками:
И если за скорость света не ждёшь спасибо,
то общего, может, небытия броня
ценит попытки её превращенья в сито
и за отверстие поблагодарит меня.— «Меня упрекали во всём, окромя погоды…».
Драматург, переводчик, литератор.
Перу Бродского принадлежат две опубликованные пьесы: «Мрамор» (1982) и «Демократия» (1990—1992). Ему также принадлежат переводы пьес английского драматурга Тома Стоппарда «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» и ирландца Брендана Биэна «Говоря о верёвке». Бродский оставил значительное наследие как переводчик мировой поэзии на русский язык. Из переведённых им авторов можно назвать, в частности, Джона Донна, Эндрю Марвелла, Ричарда Уилбера, Еврипида (из «Медеи»), Константиноса Кавафиса, Константы Ильдефонса Галчинского, Чеслава Милоша, Томаса Венцловы. Значительно реже Бродский обращался к переводам на английский. Прежде всего это, конечно, автопереводы, а также переводы из Мандельштама, Цветаевой, Виславы Шимборской и ряд других.
Сюзан Зонтаг, американская писательница и близкий друг Бродского, говорит: «Я уверена, что он рассматривал своё изгнание как величайшую возможность стать не только русским, но всемирным поэтом… Я помню, как Бродский сказал, смеясь, где-то в 1976—1977: „Иногда мне так странно думать, что я могу написать всё, что я захочу, и это будет напечатано“». Этой возможностью Бродский воспользовался в полной мере. Начиная с 1972 года он с головой окунается в общественную и литературную жизнь. Помимо трёх вышеназванных книг эссе, число написанных им статей, предисловий, писем в редакции, рецензий на различные сборники превышает сто, не считая многочисленных устных выступлений на вечерах творчества русских и англоязычных поэтов, участия в дискуссиях и форумах, журнальных интервью. В списке авторов, на чьё творчество он даёт отзыв, имена И. Лиснянской, Е. Рейна, А. Кушнера, Д. Новикова, Б. Ахмадулиной, Л. Лосева, Ю. Кублановского, Ю. Алешковского, Вл. Уфлянда, В. Гандельсмана, А. Наймана, Р. Дериевой, Р. Уилбера, Ч. Милоша, М. Стрэнда, Д. Уолкотта и другие. Крупнейшие газеты мира публикуют его обращения в защиту преследуемых литераторов: С. Рушди, Н. Горбаневской, В. Марамзина, Т. Венцловы, К. Азадовского. Как пишет Л. Штерн, Бродский «старался помочь столь большому количеству людей [в том числе рекомендательными письмами], что… наступила некая девальвация его рекомендаций».
Относительное финансовое благополучие (по крайней мере, по меркам эмиграции) давало Бродскому возможность оказывать и более материальную помощь. Лев Лосев пишет:
Несколько раз я участвовал в сборе денег на вспомоществование нуждающимся старым знакомым, иной раз и тем, к кому Иосиф не должен был бы питать симпатий, и, когда я просил у него, он принимался торопливо выписывать чек, даже не давая договорить.
Вот свидетельство Романа Каплана, знавшего Бродского ещё с российских времён владельца ресторана «Русский самовар», одного из культурных центров русской эмиграции в Нью-Йорке:
В 1987 году Иосиф получил Нобелевскую премию… Я давно знал Бродского и обратился к нему за помощью. Иосиф вместе с Мишей Барышниковым решили мне помочь. Они внесли деньги, а я им отдал какую-то долю от этого ресторана… Увы, дивидендов я не платил, но я каждый год торжественно отмечал его день рождения.
Библиотека Конгресса избрала Бродского поэтом-лауреатом США на 1991—1992 годы. В этом почётном, но традиционно номинальном качестве он развил активную деятельность по пропаганде поэзии. Его идеи привели к созданию American Poetry and Literacy Project (Американский проект: «Поэзия и Грамотность»), в ходе которого с 1993 года более миллиона бесплатных поэтических сборников были розданы в школах, отелях, супермаркетах, на вокзалах и проч. По словам Уильяма Уодсворта, занимавшего с 1989 по 2001 год пост директора Американской академии поэтов, инаугурационная речь Бродского на посту поэта-лауреата «стала причиной трансформации взгляда Америки на роль поэзии в её культуре». Незадолго до смерти Бродский увлёкся идеей основать в Риме русскую академию. Осенью 1995 года он обратился к мэру Рима с предложением о создании академии, где могли бы учиться и работать художники, писатели и учёные из России. Эта идея была реализована уже после смерти поэта. В 2000 году Фонд стипендий памяти Иосифа Бродского отправил в Рим первого российского поэта-стипендиата, а в 2003 году — первого художника.
Англоязычный поэт.
В 1973 году вышла первая авторизованная книга переводов поэзии Бродского на английский — «Selected poems» («Избранные стихотворения») в переводах Джорджа Клайна и с предисловием Одена. Второй сборник на английском языке, «A Part of Speech» («Часть речи»), вышла в 1980 году; третий, «To Urania» («К Урании»), — в 1988 году. В 1996 году был опубликован «So Forth» («И так далее») — четвёртый сборник стихов на английском языке, подготовленный Бродским. В последние две книги включены как переводы и автопереводы с русского, так и стихотворения, изначально написанные на английском. С годами Бродский всё меньше доверял переводы своих стихов на английский другим переводчикам; одновременно он всё чаще сочинял стихи на английском, хотя, по его собственным словам, не считал себя двуязычным поэтом и утверждал, что «для меня, когда я пишу стихи по-английски, — это скорее игра…». Лосев пишет: «В языковом и культурном отношении Бродский был русским, а что касается самоидентификации, то в зрелые годы он свёл её к лапидарной формуле, которую неоднократно использовал: „Я — еврей, русский поэт и американский гражданин“».
В пятисотстраничном собрании англоязычной поэзии Бродского, выпущенном после смерти автора, нет переводов, выполненных без его участия. Но если его эссеистика вызывала в основном положительные критические отклики, то отношение к нему как к поэту в англоязычном мире было далеко не однозначным. По мнению Валентины Полухиной, «парадокс восприятия Бродского в Англии заключается в том, что с ростом репутации Бродского-эссеиста ужесточались атаки на Бродского — поэта и переводчика собственных стихов». Спектр оценок был очень широк, от крайне негативных до хвалебных, но в целом превалировал критический уклон. Роли Бродского в англоязычной поэзии, переводу его стихов на английский, взаимоотношениям русского и английского языков в его творчестве посвящены, в частности, эссе-мемуары Дэниэла Уэйссборта «From Russian with love». Ему принадлежит следующая оценка английских стихов Бродского:
На мой взгляд, они весьма беспомощны, даже возмутительны, в том смысле, что он вводит рифмы, которые всерьёз в серьёзном контексте не воспринимаются. Он пытался расширить границы применения женской рифмы в английской поэзии, но в результате его произведения начинали звучать как У. Ш. Гилберт или Огден Нэш. Но постепенно у него получалось лучше и лучше, он и в самом деле начал расширять возможности английской просодии, что само по себе необыкновенное достижение для одного человека. Не знаю, кто ещё мог этого добиться. Набоков не мог.
Возвращение.
Перестройка в СССР и совпавшее с ней присуждение Бродскому Нобелевской премии прорвали плотину молчания на родине, и в скором времени публикации стихов и эссе Бродского хлынули потоком. Первая (помимо нескольких стихотворений, просочившихся в печать в 1960-х) подборка стихотворений Бродского появилась в декабрьской книжке «Нового мира» за 1987 год. До этого момента творчество поэта было известно на его родине весьма ограниченному кругу читателей и лишь благодаря рукописным и машинописным спискам, распространявшимся в самиздате. В 1989 году Бродский был реабилитирован по процессу 1964 года; было признано, что в его действиях отсутствовал состав административного правонарушения.
В 1992 году в России начинает выходить 4-томное собрание сочинений.
В 1995 году Бродскому присвоено звание почётного гражданина Санкт-Петербурга.
Последовали приглашения вернуться на родину. Бродский откладывал приезд: его смущала публичность такого события, чествования, внимание прессы, которыми бы неизбежно сопровождался его визит. Не позволяло и здоровье. Одним из его последних аргументов был такой: «Лучшая часть меня уже там — мои стихи».
Общественная позиция.
В 1974 году Бродский пишет стихотворение «На смерть Жукова», являющееся откликом на смерть советского полководца Георгия Константиновича Жукова. Жанровое и структурное своеобразие, по мнению литераторов, позволяет рассматривать стихотворение как «имперское» и «патриотическое». На такие заявления Иосиф Александрович отвечал следующее: «Вообще-то я считаю, что это стихотворение в своё время должны были напечатать в газете „Правда“». Также в стихотворении Бродского, написанного не позднее 1992 года и представляющего собой резкую эмоциональную реакцию на провозглашение независимости Украины, используется, как считает украинист Ольга Бертельсен, «напористый и довольно агрессивный империалистический тон».
Первый митинг, в котором участвовал Бродский, — митинг в поддержку антитоталитарного и антикоммунистического польского движения «Солидарность», второй — против ввода советских войск в Афганистан.
Соавтор фильма «Прогулки с Бродским» Елена Якович рассказала, что первый Президент России был для поэта очень важным человеком. Во время съёмок, в ноябре 1993 года, Иосиф Александрович сказал: «на сегодняшний день я в партии Бориса Ельцина. Я думаю, что этот человек делает всё так, как, видимо, только и можно в этих обстоятельствах». Бродский упомянул имя Президента в своём стихотворении «Подражание Горацию»:
Но ты, кораблик, чей кормщик Боря,
не отличай горизонт от горя.
Лети по волнам стать частью моря,
лети, лети.
Смерть и погребение.
Субботним вечером 27 января 1996 года в Нью-Йорке Бродский готовился ехать в Саут-Хэдли и собрал в портфель рукописи и книги, чтобы на следующий день взять с собой. В понедельник начинался весенний семестр. Пожелав жене спокойной ночи, Бродский сказал, что ему нужно ещё поработать, и поднялся к себе в кабинет. Утром жена обнаружила его на полу в кабинете. Бродский был полностью одет; на письменном столе рядом с очками лежала раскрытая книга — двуязычное издание греческих эпиграмм.
Иосиф Александрович Бродский скоропостижно скончался в ночь c 27 на 28 января 1996 года, не дожив 4 месяца до своего 56-летия. Причина смерти — внезапная остановка сердца вследствие инфаркта.
1 февраля 1996 года в Епископальной приходской церкви Благодати (Grace Church) в Бруклин Хайтс, неподалёку от дома Бродского, прошло отпевание. На следующий день состоялось временное захоронение: тело в гробу, обитом металлом, поместили в склеп на кладбище при храме Святой Троицы (Trinity Church Cemetery), на берегу Гудзона, где оно хранилось до 21 июня 1997 года. Присланное телеграммой предложение депутата Государственной Думы РФ Г. В. Старовойтовой похоронить поэта в Петербурге на Васильевском острове было отвергнуто — «это означало бы решить за Бродского вопрос о возвращении на родину». Мемориальная служба состоялась 8 марта на Манхэттене в епископальном соборе Святого Иоанна Богослова. Речей не было. Стихи читали Чеслав Милош, Дерек Уолкотт, Шеймас Хини, Михаил Барышников, Лев Лосев, Энтони Хект, Марк Стрэнд, Розанна Уоррен, Евгений Рейн, Владимир Уфлянд, Томас Венцлова, Анатолий Найман, Яков Гордин, Мария Соццани-Бродская и другие. Звучала музыка Гайдна, Моцарта, Пёрселла. В 1973 году в этом же соборе Бродский был одним из организаторов мемориальной службы памяти Уистена Одена.
В своих широко цитируемых воспоминаниях, посвящённых последней воле и похоронам Бродского, поэт и переводчик Илья Кутик говорит:
За две недели до своей смерти Бродский купил себе место в небольшой часовне на нью-йоркском кладбище по соседству с Бродвеем (именно такой была его последняя воля). После этого он составил достаточно подробное завещание. Был также составлен список людей, которым были отправлены письма, в которых Бродский просил получателя письма дать подписку в том, что до 2020 года получатель не будет рассказывать о Бродском как о человеке и не будет обсуждать его частную жизнь; о Бродском-поэте говорить не возбранялось.
Большинство утверждений, сделанных Кутиком, не подтверждается другими источниками. В то же время близко знавшие Бродского Э. Шеллберг, М. Воробьёва, Л. Лосев, В. Полухина, Т. Венцлова выступили с опровержениями. В частности, Шеллберг и Воробьёва заявили: «Хотим заверить, что статья об Иосифе Бродском, опубликованная под именем Ильи Кутика на 16-й странице „Независимой газеты“ от 28 января 1998 года, на 95 процентов является вымыслом». Своё резкое несогласие с рассказом Кутика высказал Лев Лосев, засвидетельствовавший в числе прочего, что Бродский не оставлял указаний относительно своих похорон, не покупал место на кладбище и т. д. По свидетельствам Лосева и Полухиной, Илья Кутик не присутствовал на описываемых им похоронах Бродского.
Решение вопроса об окончательном месте упокоения поэта заняло больше года. По словам вдовы Бродского Марии, «идею о похоронах в Венеции высказал один из его друзей. Это город, который, не считая Санкт-Петербурга, Иосиф любил больше всего. Кроме того, рассуждая эгоистически, Италия — моя страна, поэтому было лучше, чтобы мой муж там и был похоронен. Похоронить его в Венеции было проще, чем в других городах, например в моём родном городе Компиньяно около Лукки. Венеция ближе к России и является более доступным городом». Вероника Шильц и Бенедетта Кравери договорились с властями Венеции о месте на старинном кладбище на острове Сан-Микеле. Желание быть похороненным на Сан-Микеле встречается в шуточном послании Бродского 1974 года Андрею Сергееву:
Хотя бесчувственному телу
равно повсюду истлевать,
лишённое родимой глины, оно в аллювии долины
ломбардской гнить не прочь. Понеже
свой континент и черви те же.
Стравинский спит на Сан-Микеле…
21 июня 1997 года на кладбище Сан-Микеле в Венеции состоялось перезахоронение тела Иосифа Бродского. Первоначально тело поэта планировали похоронить на русской половине кладбища между могилами Стравинского и Дягилева, но это оказалось невозможным, поскольку Бродский не был православным. Также отказало в погребении и католическое духовенство. В результате решили похоронить тело в протестантской части кладбища. Место упокоения было отмечено скромным деревянным крестом с именем Joseph Brodsky.
Через несколько лет на могиле поэта установили надгробный памятник работы художника Владимира Радунского. На обороте памятника выполнена надпись на латыни — строка из элегии Проперция «Letum non omnia finit» — «Не всё кончается со смертью».
Люди, приходя на могилу, оставляют камешки, письма, стихи, карандаши, фотографии, сигареты Camel (Бродский много курил) и виски.
Константин Дмитриевич Бальмонт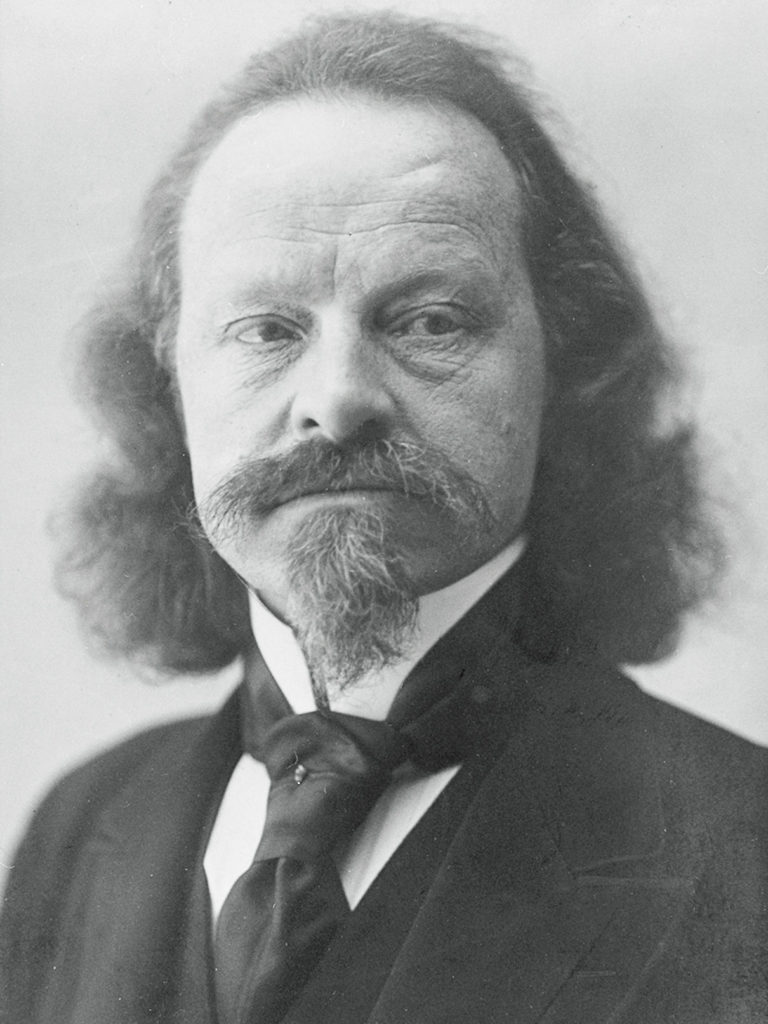
Константи́н Дми́триевич Ба́льмо́нт (3 [15] июня 1867, деревня Гумнищи, Шуйский уезд, Владимирская губерния, Российская империя — 23 декабря 1942, Нуази-ле-Гран, Франция) — русский поэт-символист, переводчик и эссеист, один из виднейших представителей русской поэзии Серебряного века.
Опубликовал 35 поэтических сборников, 20 книг прозы, переводил со многих языков (Уильям Блейк, Эдгар Аллан По, Перси Биш Шелли, Оскар Уайльд, Альфред Теннисон, Герхарт Гауптман, Шарль Бодлер, Герман Зудерман; испанские песни, словацкий, грузинский эпос, югославская, болгарская, литовская, мексиканская, японская поэзия).
Автор автобиографической прозы, мемуаров, филологических трактатов, историко-литературных исследований и критических эссе. Был номинирован на Нобелевскую премию по литературе (1923).
Биография.
Константин Бальмонт родился 3 (15) июня 1867 года в селе Гумнищи Шуйского уезда Владимирской губернии, третьим из семерых сыновей. Известно, что дед поэта был морским офицером. Отец Дмитрий Константинович Бальмонт (1835—1907) служил в Шуйском уездном суде и земстве: сначала мировым судьёй, затем — председателем уездной земской управы. Мать Вера Николаевна, урождённая Лебедева, происходила из семьи полковника, в которой любили литературу и занимались ею профессионально; она выступала в местной печати, устраивала литературные вечера, любительские спектакли. Мать оказала сильное влияние на мировоззрение будущего поэта, введя его в мир музыки, словесности, истории, первой научив постигать «красоту женской души». Вера Николаевна хорошо знала иностранные языки, много читала и «не была чужда некоторого вольнодумства»: в доме принимали «неблагонадёжных» гостей. Именно от матери Бальмонт, как сам он писал, унаследовал «необузданность и страстность», весь свой «душевный строй».
Годы детства.
Читать будущий поэт научился самостоятельно в пять лет, подсматривая за матерью, которая обучала грамоте старшего брата. Растроганный отец подарил Константину по этому случаю первую книжку, «что-то о дикарях-океанийцах». Мать познакомила сына с образцами лучшей поэзии. «Первые поэты, которых я читал, были народные песни, Никитин, Кольцов, Некрасов и Пушкин. Из всех стихов в мире я больше всего люблю „Горные вершины“ Лермонтова (не Гёте, Лермонтова)», — писал позже поэт. Вместе с тем «…Моими лучшими учителями в поэзии были — усадьба, сад, ручьи, болотные озерки, шелест листвы, бабочки, птицы и зори», — вспоминал он в 1910-х годах. «Красивое малое царство уюта и тишины», — так писал он позже о деревушке с десятком изб, при которой находилась скромная усадьба — старый дом, окружённый тенистым садом. Гумнищи и родной край, где прошли первые десять лет его жизни, поэт вспоминал всю свою жизнь и всегда описывал с огромной любовью.
Когда пришло время отдавать старших детей в школу, семья переехала в Шую. Переезд в город не означал отрыва от природы: дом Бальмонтов, окружённый обширным садом, стоял на живописном берегу реки Тезы; отец, любитель охоты, часто выезжал в Гумнищи, и Константин сопровождал его чаще других. В 1876 году Бальмонт поступил в подготовительный класс Шуйской гимназии, которую позже называл «гнездом декадентства и капиталистов, чьи фабрики портили воздух и воду в реке». Сначала мальчик делал успехи, но вскоре ученье ему наскучило, и успеваемость снизилась. Под впечатлением от прочитанного он в возрасте десяти лет начал писать стихи. «В яркий солнечный день они возникли, сразу два стихотворения, одно о зиме, другое о лете», — вспоминал он. Эти поэтические начинания, однако, были раскритикованы матерью, и мальчик не пытался повторить свой поэтический эксперимент в течение шести лет.
Из седьмого класса в 1884 году Бальмонт вынужден был уйти из-за принадлежности к нелегальному кружку, который состоял из гимназистов, заезжих студентов и учителей, а занимался тем, что печатал и распространял в Шуе прокламации исполнительного комитета партии «Народная воля». Подоплёку этого своего раннего революционного настроя поэт впоследствии объяснял так: «…Я был счастлив, и мне хотелось, чтобы всем было так же хорошо. Мне казалось, что, если хорошо лишь мне и немногим, это безобразно».
Усилиями матери Бальмонт был переведён в гимназию города Владимира. Но здесь жить ему пришлось на квартире у учителя греческого языка, который ревностно исполнял обязанности «надзирателя». В конце 1885 года состоялся литературный дебют Бальмонта. Три его стихотворения были напечатаны в популярном петербургском журнале «Живописное обозрение» (2 ноября — 7 декабря). Это событие не было замечено никем, кроме наставника, который запретил Бальмонту печататься вплоть до завершения учёбы в гимназии. К этому времени относится знакомство юного поэта с В. Г. Короленко. Известный писатель, получив от товарищей Бальмонта по гимназии тетрадь с его стихами, отнёсся к ним серьёзно и написал гимназисту обстоятельное письмо — благожелательный наставнический отзыв. «Он писал мне, что у меня много красивых подробностей, успешно выхваченных из мира природы, что нужно сосредоточивать своё внимание, а не гоняться за каждым промелькнувшим мотыльком, что никак не нужно торопить своё чувство мыслью, а надо довериться бессознательной области души, которая незаметно накопляет свои наблюдения и сопоставления, и потом внезапно всё это расцветает, как расцветает цветок после долгой невидной поры накопления своих сил», — вспоминал Бальмонт. «Если вы сумеете сосредоточиться и работать, мы услышим от вас со временем нечто незаурядное», — так заканчивалось письмо Короленко, которого поэт называл впоследствии своим «крёстным отцом». Курс Бальмонт окончил в 1886 году, по собственным словам, «прожив, как в тюрьме, полтора года». «Гимназию проклинаю всеми силами. Она надолго изуродовала мою нервную систему», — писал впоследствии поэт. Подробно детские и юношеские годы были описаны им в автобиографическом романе «Под новым серпом» (Берлин, 1923). В семнадцать лет Бальмонт испытал и первое литературное потрясение: роман «Братья Карамазовы», как вспоминал он позже, дал ему «больше, чем какая-либо книга в мире».
В 1886 году Константин Бальмонт поступил на юридический факультет Московского университета, где сблизился с Петром Фёдоровичем Николаевым, революционером-шестидесятником. Но уже в 1887 году как один из организаторов студенческих беспорядков (они были связаны с введением нового университетского устава, который студенты считали реакционным), Бальмонт был исключён, арестован и посажен на трое суток в Бутырскую тюрьму, а затем без суда выслан в Шую. Бальмонт, который «в юности больше всего увлекался общественными вопросами», до конца своей жизни считал себя революционером и бунтарём, мечтавшим «о воплощении человеческого счастья на земле». Поэзия в интересах Бальмонта возобладала лишь позже; в юные годы он порывался стать пропагандистом и «уйти в народ».
Литературный дебют.
В 1888 году Бальмонт вернулся в университет, но из-за сильного нервного истощения учиться не смог — ни там, ни в ярославском Демидовском лицее юридических наук, куда поступил в 1889 году. В сентябре 1890 года он был отчислен из лицея и на этом оставил попытки получить «казённое образование». «…Я не смог себя принудить <заниматься юридическими науками>, зато жил истинно и напряжённо жизнью своего сердца, а также пребывал в великом увлечении немецкой литературой», — писал он в 1911 году. Своими знаниями в области истории, философии, литературы и филологии Бальмонт был обязан себе самому и старшему брату, страстно увлекавшемуся философией.
В 1889 году Бальмонт женился на Ларисе Михайловне Гарелиной, дочери иваново-вознесенского купца. Год спустя в Ярославле на собственные средства он издал свой первый «Сборник стихотворений»; некоторые юношеские произведения, вошедшие в книгу, были опубликованы ещё в 1885 году. Впрочем, дебютный сборник 1890 года интереса не вызвал, близкие люди его не приняли, и вскоре после выхода поэт сжёг почти весь небольшой тираж.
В марте 1890 года произошёл инцидент, наложивший отпечаток на всю последующую жизнь Бальмонта: он попытался покончить с собой, выбросился из окна третьего этажа, получил серьёзные переломы и провёл год в постели. Считалось, что толкнуло его на такой поступок отчаяние от семейного и финансового положения: женитьба рассорила Бальмонта с родителями и лишила финансовой поддержки, непосредственным же толчком явилась прочитанная незадолго до этого «Крейцерова соната». Год, проведённый в постели, как вспоминал сам поэт, оказался творчески весьма плодотворным и повлёк «небывалый расцвет умственного возбуждения и жизнерадостности». Именно в этот год он осознал себя поэтом, увидел собственное предназначение. В 1923 году в биографическом рассказе «Воздушный путь» он писал:
«В долгий год, когда я, лёжа в постели, уже не чаял, что я когда-нибудь встану, я научился от предутреннего чириканья воробьёв за окном и от лунных лучей, проходивших через окно в мою комнату, и от всех шагов, достигавших до моего слуха, великой сказке жизни, понял святую неприкосновенность жизни. И когда наконец я встал, душа моя стала вольной, как ветер в поле, никто уже более не был над нею властен, кроме творческой мечты, а творчество расцвело буйным цветом…«
К. Бальмонт. Воздушный путь (Берлин, 1923).
Некоторое время после болезни Бальмонт, к этому времени с женой расставшийся, жил в нужде; он, по собственным воспоминаниям, месяцами «не знал, что такое быть сытым, и подходил к булочным, чтобы через стекло полюбоваться на калачи и хлебы». «Начало литературной деятельности было сопряжено со множеством мучений и неудач. В течение четырёх или пяти лет ни один журнал не хотел меня печатать. Первый сборник моих стихов… не имел, конечно, никакого успеха. Близкие люди своим отрицательным отношением значительно усилили тяжесть первых неудач», — писал он в автобиографическом письме 1903 года. Под «близкими людьми» поэт подразумевал жену Ларису, а также друзей из числа «мыслящих студентов», которые враждебно встретили публикацию, посчитав, что автор предал «идеалы общественной борьбы» и замкнулся в рамках «чистого искусства». В эти трудные дни Бальмонту вновь помог В. Г. Короленко. «Теперь он явился ко мне, сильно примятый разными невзгодами, но, по-видимому, не упавший духом. Он, бедняга, очень робок, и простое, внимательное отношение к его работе уже ободрит его и будет иметь значение», — писал тот в сентябре 1891 года, обращаясь к М. Н. Альбову, который тогда был одним из редакторов журнала «Северный вестник», с просьбой обратить внимание на начинающего поэта.
Огромную помощь оказал Бальмонту и профессор Московского университета Н. И. Стороженко. «Он поистине спас меня от голода и как отец сыну бросил верный мост…», — вспоминал поэт впоследствии. Бальмонт отнёс ему свою статью о Шелли («из рук вон плохую», по собственному более позднему признанию), и тот взял начинающего литератора под свою опеку. Именно Стороженко уговорил издателя К. Т. Солдатёнкова поручить начинающему поэту перевод двух фундаментальных книг — «Истории скандинавской литературы» Ф. В. Горна и Ф. Швейцера и «Истории итальянской литературы» Гаспари. Оба перевода были опубликованы в 1894—1895 годах. «Эти работы были моим насущным хлебом целых три года и дали мне возможности желанные осуществить свои поэтические мечты», — писал Бальмонт в очерке «Видящие глаза». В 1887—1889 годах поэт активно переводил немецких и французских авторов, затем в 1892—1894 годах взялся за работу над произведениями Перси Шелли и Эдгара Аллана По; именно этот период считается временем его творческого становления.
Профессор Стороженко, кроме того, ввёл Бальмонта в редакцию «Северного вестника», вокруг которой группировались поэты нового направления. Первая поездка Бальмонта в Петербург состоялась в октябре 1892 года: здесь он познакомился с Н. М. Минским, Д. С. Мережковским и З. Н. Гиппиус; общие радужные впечатления, впрочем, были омрачены наметившейся взаимной антипатией с последней.
На почве переводческой деятельности произошло сближение Бальмонта с меценатом, знатоком западноевропейских литератур, князем А. И. Урусовым, который во многом способствовал расширению литературного кругозора молодого поэта. На средства мецената Бальмонт выпустил две книги переводов Эдгара По («Баллады и фантазии», «Таинственные рассказы»). «Он напечатал мой перевод „Таинственных рассказов“ Эдгара По и громко восхвалял мои первые стихи, составившие книжки „Под северным небом“ и „В безбрежности“», — позже вспоминал Бальмонт. «Урусов помог моей душе освободиться, помог мне найти самого себя», — писал поэт в 1904 году в книге «Горные вершины». Называя свои начинания «…осмеянными шагами по битому стеклу, по тёмным острокрайним кремням, по дороге пыльной, как будто не ведущей ни к чему», Бальмонт в числе людей, помогавших ему, отмечал также переводчика и публициста П. Ф. Николаева.
В сентябре 1894 года в студенческом «Кружке любителей западноевропейской литературы» Бальмонт познакомился с В. Я. Брюсовым, впоследствии ставшим его самым близким другом. Брюсов писал об «исключительном» впечатлении, которое произвели на него личность поэта и его «исступлённая любовь к поэзии».
Сборник «Под северным небом», вышедший в 1894 году, принято считать отправной точкой творческого пути Бальмонта. В декабре 1893 года, незадолго до выхода книги, поэт сообщал в письме Н. М. Минскому: «Написал я целую серию стихов (своих) и в январе приступлю к печатанию их отдельной книжкою. Предчувствую, что мои либеральные друзья будут очень меня ругать, ибо либерализма в них нет, а „растлевающих“ настроений достаточно». Стихи были во многом продуктом своего времени (полнясь жалобами на унылую, безрадостную жизнь, описаниями романтических переживаний), но предчувствия начинающего поэта оправдались лишь отчасти: книга получила широкий отклик, и отзывы были в основном положительными. В них отмечалась несомненная одарённость дебютанта, его «собственная физиономия, изящество формы» и свобода, с которой он владеет ею.
Восхождение к славе.
Если дебют 1894 года не отличался оригинальностью, то во втором сборнике «В безбрежности» (1895) Бальмонт приступил к поискам «нового пространства, новой свободы», возможностей соединения поэтического слова с мелодикой. «…Я показал, что может сделать с русским стихом поэт, любящий музыку. В них есть ритмы и перезвоны благозвучий, найденные впервые», — позже писал он сам о стихах 1890-х годов. Несмотря на то, что сборник «В безбрежности» современные Бальмонту критики признали неудачным, «блеск стиха и поэтический полёт» (согласно Энциклопедическому словарю Брокгауза и Ефрона) обеспечили молодому поэту доступ в ведущие литературные журналы.
1890-е годы были для Бальмонта периодом активной творческой работы в самых разнообразных областях знаний. Поэт, обладавший феноменальной работоспособностью, осваивал «один за другим многие языки, упиваясь работой, как одержимый… прочитывал целые библиотеки книг, начиная с трактатов о любимой им испанской живописи и кончая исследованиями по китайскому языку и санскриту». Он увлечённо изучал историю России, книги по естественным наукам и народному творчеству. Уже в зрелые годы, обращаясь к начинающим литераторам с наставлением, он писал, что дебютанту нужно «…уметь в весенний свой день сидеть над философской книгой и английским словарём, и испанской грамматикой, когда так хочется кататься на лодке и, может быть, можно с кем-то целоваться. Уметь прочесть и 100, и 300, и 3 000 книг, среди которых много-много скучных. Полюбить не только радость, но и боль. Молча лелеять в себе не только счастье, но и вонзающуюся в сердце тоску».
К 1895 году относятся знакомства Бальмонта с Юргисом Балтрушайтисом, которое постепенно переросло в дружбу, продолжавшуюся много лет, и С. А. Поляковым, образованным московским коммерсантом, математиком и полиглотом, переводчиком Кнута Гамсуна. Именно Поляков, издатель модернистского журнала «Весы», пять лет спустя учредил символистское издательство «Скорпион», где вышли лучшие книги Бальмонта.
В 1896 году Бальмонт женился на переводчице Е. А. Андреевой и отправился с супругой в Западную Европу. Несколько лет, проведённых за границей, предоставили начинающему литератору, интересовавшемуся, помимо основного предмета, историей, религией и философией, огромные возможности. Он посетил Францию, Голландию, Испанию, Италию, много времени проводя в библиотеках, совершенствуя знание языков. В те же дни он писал матери из Рима: «Весь этот год за границей я себя чувствую на подмостках, среди декораций. А там — вдали — моя печальная красота, за которую десяти Италий не возьму». Весной 1897 года Бальмонт был приглашён в Англию для чтения лекций по русской поэзии в Оксфордском университете, где познакомился, в частности, с антропологом Эдуардом Тайлором и филологом, историком религий Томасом Рис-Дэвидсом. «Первый раз в жизни я живу всецело и безраздельно эстетическими и умственными интересами и никак не могу насытиться сокровищницами живописи, поэзии и философии», — восторженно писал он Акиму Волынскому. Впечатления от путешествий 1896—1897 годов нашли своё отражение в сборнике «Тишина»: критикой он был воспринят как лучшая на тот момент книга поэта. «Мне показалось, что сборник носит на себе отпечаток всё более и более окрепшего стиля. Вашего собственного, бальмонтовского стиля и колорита», — писал поэту в 1898 году князь Урусов. В 1899 году К. Бальмонт был избран членом Общества любителей российской словесности.
Пик популярности.
В конце 1890-х годов Бальмонт не оставался подолгу на одном месте; основными пунктами его маршрута были Санкт-Петербург (октябрь 1898 — апрель 1899 года, Москва и Подмосковье (май — сентябрь 1899 года), Берлин, Париж, Испания, Биарриц и Оксфорд (конец года). В 1899 году Бальмонт писал поэтессе Л. Вилькиной:
«У меня много новостей. И все хорошие. Мне «везёт». Мне пишется. Мне жить, жить, вечно жить хочется. Если бы Вы знали, сколько я написал стихов новых! Больше ста. Это было сумасшествие, сказка, новое. Издаю новую книгу, совсем не похожую на прежние. Она удивит многих. Я изменил своё понимание мира. Как ни смешно прозвучит моя фраза, я скажу: я понял мир. На многие годы, быть может, навсегда.К. Бальмонт — Л. Вилькиной»
Сборник «Горящие здания» (1900), занимающий центральное место в творческой биографии поэта, создавался большей частью в имении Поляковых «Баньки» Московского уезда; хозяин его был с большой теплотой упомянут в посвящении. «Нужно быть беспощадным к себе. Только тогда можно достичь чего-нибудь», — такими словами в предисловии к «Горящим зданиям» Бальмонт сформулировал свой девиз. Основную задачу книги автор определил как стремление к внутреннему освобождению и самопознанию. В 1901 году, отсылая сборник Л. Н. Толстому, поэт писал: «Эта книга — сплошной крик души разорванной, и, если хотите, убогой, уродливой. Но я не откажусь ни от одной её страницы и — пока — люблю уродство не меньше, чем гармонию». Благодаря сборнику «Горящие здания» Бальмонт приобрёл всероссийскую известность и стал одним из лидеров символизма, нового движения в русской литературе. «В течение десятилетия Бальмонт нераздельно царил над русской поэзией. Другие поэты или покорно следовали за ним, или, с большими усилиями, отстаивали свою самостоятельность от его подавляющего влияния», — писал В. Я. Брюсов.
Постепенно образ жизни Бальмонта во многом под влиянием С. Полякова стал меняться. Жизнь поэта в Москве проходила в усидчивых занятиях дома, чередовавшихся с бурными кутежами, когда встревоженная жена принималась разыскивать его по всему городу. При этом вдохновение не оставляло поэта. «Ко мне пришло что-то более сложное, чем я мог ожидать, и пишу теперь страницу за страницей, торопясь и следя за собой, чтобы не ошибиться в радостной торопливости. Как неожиданна собственная душа! Стоит заглянуть в неё, чтобы увидеть новые дали… Я чувствую, что я напал на руду… И если я не уйду с этой земли, я напишу книгу, которая не умрёт», — писал он в декабре 1900 года И. И. Ясинскому. Четвёртый поэтический сборник Бальмонта «Будем как Солнце» (1902) разошёлся тиражом 1800 экземпляров в течение полугода, что считалось неслыханным успехом для поэтического издания, закрепил за автором репутацию лидера символизма и в ретроспективе считается его лучшей поэтической книгой. Блок назвал «Будем как солнце» «книгой, единственной в своём роде по безмерному богатству».
Конфликт с властью.
В 1901 году произошло событие, оказавшее существенное влияние на жизнь и творчество Бальмонта и сделавшее его «подлинным героем в Петербурге». В марте он принял участие в массовой студенческой демонстрации на площади у Казанского собора, основным требованием которой была отмена указа об отправлении на солдатскую службу неблагонадёжных студентов. Демонстрация была разогнана полицией и казаками, среди её участников были жертвы. 14 марта Бальмонт выступил на литературном вечере в зале Городской думы и прочитал стихотворение «Маленький султан», в завуалированной форме критиковавшее режим террора в России и его организатора, Николая Второго («То было в Турции, где совесть — вещь пустая, там царствует кулак, нагайка, ятаган, два-три нуля, четыре негодяя и глупый маленький султан»). Стихотворение пошло по рукам, его собирался напечатать в газете «Искра» В. И. Ленин.
По постановлению «особого совещания» поэт был выслан из Санкт-Петербурга, на три года лишившись права проживания в столичных и университетских городах. Несколько месяцев он пробыл у друзей в усадьбе Волконских Сабынино Курской губернии (ныне Белгородской области), в марте 1902 года выехал в Париж, затем жил в Англии, Бельгии, вновь во Франции. Летом 1903 года Бальмонт вернулся в Москву, затем направился на балтийское побережье, где занялся стихами, которые вошли в сборник «Только любовь». Проведя осень и зиму в Москве, в начале 1904 года Бальмонт вновь оказался в Европе (Испания, Швейцария, после возвращения в Москву — Франция), где нередко выступал в качестве лектора; в частности, читал публичные лекции о русской и западноевропейской литературе в высшей школе в Париже. К моменту выхода сборника «Только любовь. Семицветник» (1903) поэт уже пользовался всероссийской славой. Его окружали восторженные поклонники и почитательницы. «Появился целый разряд барышень и юных дам „бальмонтисток“ — разные Зиночки, Любы, Катеньки беспрестанно толклись у нас, восхищались Бальмонтом. Он, конечно, распускал паруса и блаженно плыл по ветру», — вспоминал соседствовавший с Бальмонтом Б. К. Зайцев.
Создававшиеся в эти годы поэтические кружки бальмонтистов старались подражать кумиру не только в поэтическом самовыражении, но и в жизни. Уже в 1896 году Валерий Брюсов писал о «школе Бальмонта», причисляя к ней, в частности, Мирру Лохвицкую. «Все они перенимают у Бальмонта и внешность: блистательную отделку стиха, щеголяние рифмами, созвучаниями, — и самую сущность его поэзии», — писал он. Бальмонт, по словам Тэффи, «удивил и восхитил своим „перезвоном хрустальных созвучий“, которые влились в душу с первым весенним счастьем». «…Россия была именно влюблена в Бальмонта… Его читали, декламировали и пели с эстрады. Кавалеры нашёптывали его слова своим дамам, гимназистки переписывали в тетрадки…». Многие поэты (в их числе Лохвицкая, Брюсов, Андрей Белый, Вячеслав Иванов, М. А. Волошин, С. М. Городецкий) посвящали ему стихотворения, видя в нём «стихийного гения», вечно вольного Аригона, обречённого возвышаться над миром и полностью погружённого «в откровения своей бездонной души».
В 1904—1905 годах издательство «Скорпион» выпустило собрание стихов Бальмонта в двух томах. В конце 1904 года поэт предпринял путешествие в Мексику, откуда отправился в Калифорнию. Путевые заметки и очерки поэта наряду с выполненными им вольными переложениями индейских космогонических мифов и преданий позже вошли в «Змеиные цветы» (1910). Этот период творчества Бальмонта завершился выходом сборника «Литургия красоты. Стихийные гимны» (1905), во многом созданном под впечатлением от событий русско-японской войны.
В 1905 году Бальмонт вернулся в Россию и принял активное участие в политической жизни. В декабре поэт, по собственным словам, «принимал некоторое участие в вооружённом восстании Москвы, больше — стихами». Сблизившись с Максимом Горьким, Бальмонт начал активное сотрудничество с социал-демократической газетой «Новая жизнь» и парижским журналом «Красное знамя», который издавал А. В. Амфитеатров. Е. Андреева-Бальмонт подтверждала в воспоминаниях: в 1905 году поэт «страстно увлёкся революционным движением», «все дни проводил на улице, строил баррикады, произносил речи, влезая на тумбы». В декабре, в дни московского восстания, Бальмонт часто бывал на улицах, носил в кармане заряженный револьвер, произносил речи перед студентами. Он даже ждал расправы над собой, как ему казалось, законченным революционером. Увлечённость революцией у него была искренней, хотя, как показало будущее, неглубокой; опасаясь ареста, в ночь на 1906 год поэт спешно уехал в Париж.
Первая эмиграция: 1906—1913 годы.
В 1906 году Бальмонт обосновался в Париже, считая себя политическим эмигрантом. Он обосновался в тихом парижском квартале Пасси, но большую часть времени проводил в дальних разъездах. Почти сразу же он ощутил острую тоску по родине. «Жизнь заставила меня надолго оторваться от России, и временами мне кажется, что я уже не живу, что только струны мои ещё звучат», — писал он профессору Ф. Д. Батюшкову в 1907 году. Вопреки сложившемуся представлению, страхи поэта перед возможным преследованием российских властей не были безосновательными. А. А. Нинов в документальном исследовании «Так жили поэты…», подробно исследуя материалы, касающиеся «революционной деятельности» К. Бальмонта, приходит к выводу, что охранка «считала поэта опасным политическим лицом» и негласный надзор за ним сохранялся даже за границей.
Два сборника 1906—1907 годов были составлены из произведений, в которых К. Бальмонт непосредственным образом откликнулся на события первой русской революции. Книгу «Стихотворения» (Санкт-Петербург, 1906) конфисковала полиция; «Песни мстителя» (Париж, 1907) были запрещены к распространению в России. В годы первой эмиграции были также опубликованы сборники «Злые чары» (1906), арестованный цензурой из-за «богохульных» стихотворений, а также «Жар-птица. Свирель славянина» (1907) и «Зелёный вертоград. Слова поцелуйные» (1909). Настроению и образности этих книг, отразивших в себе увлечение поэта древнебылинной стороной русской и славянской культуры, были созвучны и «Зовы древности» (1909). Критика пренебрежительно отзывалась о новом повороте в творческом развитии поэта, но сам Бальмонт не сознавал и не признавал творческого спада.
Весной 1907 года Бальмонт побывал на Балеарских островах, в конце 1909 года посетил Египет, написав серию очерков, которые составили впоследствии книгу «Край Озириса» (1914), в 1912 году одиннадцать месяцев путешествовал по южным странам, посетив Канарские острова, Южную Африку, Австралию, Новую Зеландию, Полинезию, Цейлон, Индию. Особенно глубокое впечатление произвели на него Океания и общение с жителями островов Новая Гвинея, Самоа, Тонга. «Мне хочется обогатить свой ум, соскучившийся непомерным преобладанием личного элемента во всей моей жизни», — так объяснял поэт свою страсть к путешествиям в одном из писем. Во время одного из переездов этого путешествия его попутчиком на пароходе оказался британский дипломат Оливер Уордроп и от него Бальмонт узнал о существовании поэмы Руставели «Витязь в тигровой шкуре»: тот дал ему прочесть корректуру перевода на английский, сделанного его сестрой Марджори.
11 марта 1912 года на заседании Неофилологического общества при Санкт-Петербургском университете по случаю двадцатипятилетия литературной деятельности в присутствии более тысячи собравшихся К. Д. Бальмонт был провозглашён великим русским поэтом.
Возвращение: 1913—1920 годы.
В 1913 году политическим эмигрантам по случаю 300-летия Дома Романовых была предоставлена амнистия, и 5 мая 1913 года Бальмонт возвратился в Москву. На Брестском вокзале в Москве ему была устроена торжественная общественная встреча. Жандармы запретили поэту обратиться к встречавшей его публике с речью; вместо этого, как явствовало из сообщений тогдашней прессы, он разбросал среди толпы свежие ландыши. В честь возвращения поэта были устроены торжественные приёмы в Обществе свободной эстетики и Литературно-художественном кружке. В 1914 году была завершена публикация полного собрания стихов Бальмонта в десяти томах, продолжавшаяся семь лет. Тогда же он опубликовал поэтический сборник «Белый зодчий. Таинство четырёх светильников», свои впечатления от Океании.
После возвращения Бальмонт много ездил по стране с лекциями («Океания», «Поэзия как волшебство» и другими). «Сердце здесь сжимается… много слёз в нашей красоте», — замечал поэт, попав после дальних странствий на Оку, в русские луга и поля, где «рожь в человеческий рост и выше». «Я люблю Россию и русских. О, мы, русские, не ценим себя! Мы не знаем, как мы снисходительны, терпеливы и деликатны. Я верю в Россию, я верю в самое светлое её будущее», — писал он в одной из тогдашних статей.
В начале 1914 года поэт вернулся в Париж, затем в апреле отправился в Грузию, где ему оказали пышный приём (в частности — приветствие от Акакия Церетели, патриарха грузинской литературы) и прочёл курс лекций, имевших большой успех. Поэт стал изучать грузинский язык и взялся за перевод поэмы Шоты Руставели «Витязь в тигровой шкуре». В числе других крупных переводческих работ Бальмонта этого времени — переложение древнеиндийских памятников («Упанишады», драмы Калидасы, поэма Ашвагхоши «Жизнь Будды»). По этому поводу К. Бальмонт вёл переписку со знаменитым французским индологом и буддологом Сильвеном Леви.
Из Грузии Бальмонт вернулся во Францию, где его и застало начало Первой мировой войны. Лишь в конце мая 1915 года окружным путём — через Англию, Норвегию и Швецию — поэт вернулся в Россию. В конце сентября Бальмонт отправился в двухмесячное путешествие по городам России с лекциями, а год спустя повторил турне, которое оказалось более продолжительным и завершилось на Дальнем Востоке, откуда он в мае 1916 года ненадолго выехал в Японию.
В 1915 году вышел теоретический этюд Бальмонта «Поэзия как волшебство» — своего рода продолжение декларации 1900 года «Элементарные слова о символической поэзии»; в этом трактате о сущности и назначении лирической поэзии поэт приписывал слову «заклинательно-магическую силу» и даже «физическое могущество». Исследование во многом продолжало начатое в книгах «Горные вершины» (1904), «Белые зарницы» (1908), «Морское свечение» (1910), посвящённых творчеству русских и западноевропейских поэтов. При этом он не переставая писал, особенно часто обращаясь к жанру сонета. В эти годы поэтом было создано 255 сонетов, которые составили сборник «Сонеты Солнца, Неба и Луны» (1917). Книги «Ясень. Видение древа» (1916) и «Сонеты солнца, мёда и луны» (1917) были встречены теплее, чем прежние, но и в них критика усматривала в основном «однообразие и обилие банальных красивостей».
Меж двух революций.
Бальмонт приветствовал Февральскую революцию 1917 года, начал сотрудничать в Обществе пролетарских искусств, но вскоре разочаровался в новой власти и присоединился к партии кадетов, требовавшей продолжения войны до победного конца. В одном из номеров газеты «Утро России» он приветствовал деятельность генерала Лавра Корнилова. Поэт категорически не принял Октябрьскую революцию, которая заставила его ужаснуться «хаосу» и «урагану сумасшествия» «смутных времён» и пересмотреть многие свои прежние взгляды. В публицистической книге 1918 года «Революционер я или нет?» Бальмонт, характеризуя большевиков как носителей разрушительного начала, подавляющих «личность», выражал тем не менее убеждение в том, что поэт должен быть вне партий, что у поэта «свои пути, своя судьба — он скорее комета, чем планета (то есть, движется не по определённой орбите)».
Эти годы Бальмонт жил в Петрограде с Е. К. Цветковской (1880—1943), своей третьей женой, и дочерью Миррой, время от времени приезжая в Москву к Е. А. Андреевой и дочери Нине. Вынужденный таким образом содержать две семьи, Бальмонт бедствовал, отчасти ещё и из-за нежелания идти на компромисс с новой властью. Когда на литературной лекции кто-то подал Бальмонту записку с вопросом, отчего тот не издаёт своих произведений, последовал ответ: «Не хочу… Не могу печатать у тех, у кого руки в крови».
В 1920 году вместе с Е. К. Цветковской и дочерью Миррой поэт переехал в Москву, где «иногда, чтобы согреться, им приходилось целый день проводить в постели». По отношению к власти Бальмонт держался лояльно: работал в Наркомпросе, готовил к изданию стихи и переводы, читал лекции. В день Первого мая 1920 года в Колонном зале Дома Союзов в Москве он прочёл своё стихотворение «Песнь рабочего молота», на следующий день приветствовал стихами артистку М. Н. Ермолову на её юбилейном вечере в Малом театре. В том же году московскими литераторами было устроено чествование Бальмонта, отмечавшее тридцатилетие со дня выхода его первого, «ярославского», поэтического сборника. В начале 1920 года поэт начал хлопотать о поездке за границу, ссылаясь на ухудшение здоровья жены и дочери. К этому времени относится начало долгой и прочной дружбы Бальмонта с Мариной Цветаевой, которая в Москве пребывала в сходном, очень тяжёлом положении.
Вторая эмиграция: 1920—1942 годы.
Получив по ходатайству Юргиса Балтрушайтиса от А. В. Луначарского разрешение временно выехать за границу в командировку, вместе с женой, дочерью и дальней родственницей А. Н. Ивановой Бальмонт 25 мая 1920 года навсегда покинул Россию и через Ревель добрался до Парижа. Борис Зайцев считал, что Балтрушайтис, бывший литовским посланником в Москве, спас Бальмонта от голодной смерти: тот нищенствовал и голодал в холодной Москве, «на себе таскал дровишки из разобранного забора». Станицкий (С. В. фон Штейн), вспоминая встречу с Бальмонтом в 1920 году в Ревеле, замечал: «Печать тягостной измученности лежала на его лице, и весь он казался ещё во власти тёмных и скорбных переживаний, уже покинутых в стране бесправья и зла, но сполна ещё не избытых им».
В Париже Бальмонт с семьёй поселились в маленькой меблированной квартире. Как вспоминала Тэффи, «окно в столовой было всегда завешено толстой бурой портьерой, потому что поэт разбил стекло. Вставить новое стекло не имело никакого смысла, — оно легко могло снова разбиться. Поэтому в комнате было всегда темно и холодно. „Ужасная квартира, — говорили они. — Нет стекла, и дует“».
Поэт сразу же оказался меж двух огней. С одной стороны, эмигрантское сообщество заподозрило в нём сочувствующего Советам. Как иронически замечал С. Поляков, Бальмонт «…нарушил церемониал бегства из Советской России. Вместо того, чтобы бежать из Москвы тайно, странником пробираться через леса и долины Финляндии, на границе случайно пасть от пули пьяного красноармейца или финна, — он четыре месяца упорно добивался разрешения на выезд с семьёй, получил его и прибыл в Париж неподстреленным». Положение поэта невольно «усугубил» Луначарский, в московской газете опровергший слухи о том, что тот ведёт за границей агитацию против Советской власти. Это позволило правым эмигрантским кругам заметить «…многозначительно: Бальмонт в переписке с Луначарским. Ну, конечно, большевик!» Впрочем, и сам поэт, ходатайствуя из Франции за русских писателей, дожидавшихся выезда из России, допустил фразы, не осуждавшие положение дел в Советской России: «Всё, что совершается в России, так сложно и так перепутано», намекнув и на то, что многое из того, что делается в «культурной» Европе, ему также глубоко противно. Это послужило поводом для атаки на него публицистов-эмигрантов («…Что сложно? Массовые расстрелы? Что перепутано? Систематический грабёж, разгон Учредительного собрания, уничтожение всех свобод, военные экспедиции для усмирения крестьян?»).
С другой стороны, советская пресса начала «клеймить его как лукавого обманщика», который «ценою лжи» добился для себя свободы, злоупотребил доверием Советской власти, великодушно отпустившей его на Запад «для изучения революционного творчества народных масс». Станицкий писал:
С достоинством и спокойно отвечал Бальмонт на все эти упрёки. Но в них стоит вдуматься, чтобы лишний раз прочувствовать прелесть советской этики — чисто каннибальского пошиба. Поэт Бальмонт, всё существо которого протестует против советовластия, разорившего его родину и каждый день убивающего её мощный, творческий дух в малейших его проявлениях, обязан свято держать своё слово, данное насильникам-комиссарам и чрезвычайкам. Но эти же принципы нравственного поведения отнюдь не являются руководящими для советской власти и её агентов. Убивать парламентёров, расстреливать из пулемётов беззащитных женщин и детей, казнить голодною смертью десятки тысяч ни в чём не повинных людей, — всё это, конечно, по мнению «товарищей-большевиков», — ничто в сравнении с нарушением обещания Бальмонта вернуться в коммунистический эдем Ленина, Бухарина и Троцкого.— Станицкий о Бальмонте. Последние известия. 1921г.
Как писал впоследствии Ю. К. Терапиано, «не было в русском рассеянии другого поэта, который столь же остро переживал оторванность от России». Эмиграцию Бальмонт называл «жизнью среди чужих», хоть и работал при этом необыкновенно много; только в 1921 году вышло шесть его книг. В эмиграции Бальмонт активно сотрудничал с газетой «Парижские новости», журналом «Современные записки», многочисленными русскими периодическими изданиями, выходивших в других странах Европы. Отношение его к Советской России оставалось неоднозначным, но постоянной была тоска по России: «Я хочу России… пусто, пусто. Духа нет в Европе», — писал он Е. Андреевой в декабре 1921 года. Тяжесть оторванности от родины была усугублена и ощущением одиночества, отчуждённости от эмигрантских кругов.
Вскоре Бальмонт выехал из Парижа и поселился в местечке Капбретон в провинции Бретань, где провёл 1921—1922 годы. В 1924 году он жил в Нижней Шаранте (Шателейон), в 1925 году — в Вандее (Сен-Жиль-сюр-Ви), до поздней осени 1926 года — в Жиронде (Лакано-Океан). В начале ноября 1926 года, покинув Лакано, Бальмонт с женой отправились в Бордо. Бальмонт часто снимал виллу в Капбретоне, где общался со многими русскими и жил с перерывами до конца 1931 года, проводя здесь не только летние, но и зимние месяцы.
Общественная деятельность и публицистика.
О своём отношении к Советской России Бальмонт недвусмысленно заявил уже вскоре после того, как выехал из страны. «Русский народ воистину устал от своих злополучий и, главное, от бессовестной, бесконечной лжи немилосердных, злых правителей», — писал он в 1921 году. В статье «Кровавые лгуны» поэт рассказал о перипетиях своей жизни в Москве 1917—1920 годов. В эмигрантской периодике начала 1920-х годов регулярно появлялись его поэтические строки об «актёрах Сатаны», об «упившейся кровью» русской земле, о «днях унижения России», о «красных каплях», ушедших в русскую землю. Ряд этих стихотворений вошёл в сборник «Марево» (Париж, 1922) — первую эмигрантскую книгу поэта. Название сборника предопределила первая строка стихотворения того же названия: «Мутное марево, чёртово варево…».
В 1923 году К. Д. Бальмонт одновременно с М. Горьким и И. А. Буниным был номинирован Р. Ролланом на Нобелевскую премию по литературе.
В 1927 году публицистической статьёй «Немножко зоологии для Красной Шапочки» Бальмонт отреагировал на скандальное выступление советского полномочного представителя в Польше Д. В. Богомолова, который на приёме заявил, что Адам Мицкевич в своем известном стихотворении «Друзьям-москалям» (общепринятый перевод названия — «Русским друзьям») обращался якобы в будущее — к современной большевистской России. В том же году в Париже было опубликовано анонимное воззвание «К писателям мира», подписанное «Группа русских писателей. Россия, май 1927». В числе тех, кто откликнулся на призыв И. Д. Гальперина-Каминского поддержать воззвание, был (наряду с Буниным, Зайцевым, Куприным, Мережковским и другими) и Бальмонт. В октябре 1927 года поэт направил «вопль-мольбу» Кнуту Гамсуну, а не дождавшись ответа, обратился к Гальперину-Каминскому:
Прежде всего я укажу, что я ждал хора ответных голосов, ждал человеческого отзывного всклика от европейских писателей, ибо я не совсем ещё изверился в Европе. Я ждал месяц. Я ждал два. Молчание. Я написал крупному писателю, с которым я в лично-хороших отношениях, к писателю мировому и очень обласканному в России дореволюционной — к Кнуту Гамсуну, я обратился от лица тех мучеников мысли и слова, которые терзаются в худшей тюрьме, когда-либо бывшей на земле, в советской России. Вот уже два месяца, как Гамсун в ответ на моё письмо молчит. Я написал несколько слов и послал напечатанные Вами в «Авенир» слова Мережковского, Бунина, Шмелёва и других моему другу — другу-брату — Альфонсу де Шатобриану. Он молчит. К кому же мне взывать?..К. Бальмонт, газета «За свободу!», 17 декабря 1927 года.
В обращении к Ромену Роллану там же Бальмонт писал: «Поверьте, мы не столь бродяги по природе, как это может вам казаться. Мы покинули Россию, чтоб иметь возможность в Европе попытаться хоть что-нибудь крикнуть о Погибающей Матери, крикнуть в глухой слух очерствевших и безучастных, которые заняты лишь собой…» Резко отреагировал поэт и на политику британского правительства Джеймса Макдональда, вступившего в торговые переговоры с большевиками, а позже признавшего СССР. «Признание Англией вооружённой банды интернациональных проходимцев, с помощью немцев захвативших в Петербурге и Москве ослабевшую, благодаря военному нашему разгрому, власть, было смертельным ударом всему честному, что ещё оставалось после чудовищной войны в Европе», — писал он в 1930 году.
В отличие от своего друга Ивана Шмёлева, который тяготел к «правому» направлению, Бальмонт придерживался в целом «левых», либерально-демократических взглядов, критически относился к идеям Ивана Ильина, не принимал «примирительных» тенденций (сменовеховство, евразийство и так далее), радикальных политических движений (фашизм). При этом он сторонился бывших социалистов — А. Ф. Керенского, И. И. Фондаминского — и с ужасом наблюдал за «полевением» Западной Европы в 1920—1930-х годах, в частности, увлечением социализмом среди значительной части французской интеллектуальной элиты. Бальмонт живо откликался на события, потрясавшие эмиграцию: похищение советскими агентами в январе 1930 года генерала А. П. Кутепова, трагическую гибель короля Югославии Александра I, много сделавшего для русских эмигрантов; принимал участие в совместных акциях и протестах эмиграции («На борьбу с денационализацией» — в связи с нарастающей угрозой отрыва русских детей в Зарубежье от русского языка и русской культуры; «Помогите родному просвещению»), но при этом избегал участия в политических организациях.
Бальмонт был возмущён безразличием западноевропейских литераторов к происходившему в СССР, и это ощущение накладывалось на общее разочарование всем западным жизненным укладом. Европа и прежде вызывала в нём горечь своим рациональным прагматизмом. Ещё в 1907 году поэт замечал: «Странные люди — европейские люди, странно неинтересные. Им всё нужно доказывать. Я никогда не ищу доказательств». «Никто здесь не читает ничего. Здесь все интересуются спортом и автомобилями. Проклятое время, бессмысленное поколение! Я чувствую себя приблизительно так же, как последний Перуанский владыка среди наглых испанских пришельцев», — писал он в 1927 году.
Творчество в эмиграции.
Было принято считать, что эмиграция прошла для Бальмонта под знаком упадка; это мнение, разделявшееся многими русскими поэтами-эмигрантами, впоследствии не раз оспаривалось. В разных странах Бальмонт в эти годы опубликовал книги стихов «Дар Земле», «Светлый час» (1921), «Марево» (1922), «Моё — ей. Стихи о России» (1923), «В раздвинутой дали» (1929), «Северное сияние» (1933), «Голубая подкова», «Светослужение» (1937). В 1923 году он выпустил книги автобиографической прозы «Под новым серпом» и «Воздушный путь», в 1924-м издал книгу воспоминаний «Где мой дом?» (Прага, 1924), написал документальные очерки «Факел в ночи» и «Белый сон» о пережитом зимой 1919 года в революционной России. Бальмонт совершал продолжительные лекционные турне по Польше, Чехословакии и Болгарии, летом 1930 года совершил поездку в Литву, одновременно занимаясь переводами западнославянской поэзии, но основной темой произведений Бальмонта в эти годы оставалась Россия: воспоминания о ней и тоска по утраченному.
«Я хочу России. Я хочу, чтобы в России была преображающая заря. Только этого хочу. Ничего иного», — писал он Е. А. Андреевой. Поэта тянуло обратно в Россию, и он, склонный поддаваться сиюминутному настроению, не раз высказывал в 1920-х годах желание вернуться на родину. «Я живу и не живу, живя за границей. Несмотря на все ужасы России, я очень жалею, что уехал из Москвы», — писал он поэту А. Б. Кусикову 17 мая 1922 года. В какой-то момент Бальмонт был близок к тому, чтобы совершить этот шаг. «Я совсем было решил вернуться, но опять всё в душе спуталось», — сообщал он Е. А. Андреевой 13 июня 1923 года. «Ты почувствуешь, как я всегда люблю Россию и как мысль о нашей природе владеет мною. <…> Одно слово „брусника“ или „донник“ вызывает в моей душе такое волнение, что одного слова достаточно, чтоб из задрожавшего сердца вырвались стихи», — писал поэт 19 августа 1925 года дочери Нине Бруни, посылая ей новые стихотворения.
Последние годы жизни.
К концу 1920-х годов жизнь К. Бальмонта и Е. Цветковской становилась всё труднее. Литературные гонорары были мизерными, финансовая поддержка, которая исходила в основном от Чехословакии и Югославии, создавших фонды помощи русским писателям, стала нерегулярной, затем прекратилась. Поэту приходилось заботиться и о трёх женщинах, причём дочь Мирра, отличавшаяся крайней беззаботностью и непрактичностью, доставляла ему массу хлопот. «Константин Дмитриевич — в очень трудном положении, едва сводит концы с концами… Имейте в виду, что наш славный Поэт бьётся от нужды действительной, приходившая ему из Америки помощь — кончилась… Дела Поэта всё хуже, хуже», — писал И. С. Шмелёв В. Ф. Зеелеру, одному из немногих, кто регулярно оказывал Бальмонту помощь.
Положение сделалось критическим после того, как в 1932 году стало ясно, что поэт страдает серьёзным психическим заболеванием. С августа 1932 по май 1935 года Бальмонты безвыездно жили в Кламаре под Парижем, в бедности. Весной 1935 года Бальмонт попал в клинику. «Мы в беде великой и в нищете полной… И у Константина Дмитриевича нет ни ночной рубашки приличной, ни ночных туфель, ни пижамы. Гибнем, дорогой друг, если можете, помогите, посоветуйте…», — писала Цветковская Зеелеру 6 апреля 1935 года. Невзирая на болезнь и бедственное положение, поэт сохранил прежние эксцентричность и чувство юмора. По поводу автомобильной катастрофы, в которую он попал в середине 1930-х годов, Бальмонт в письме В. В. Обольянинову жаловался не на ушибы, а на испорченный костюм: «Русскому эмигранту в самом деле приходится размышлять, что ему выгоднее потерять — штаны или ноги, на которые они надеты…». В письме Е. А. Андреевой поэт сообщал:
Какой я сейчас? Да всё тот же. Новые мои знакомые и даже прежние смеются, когда я говорю сколько мне лет, и не верят. Вечно любить мечту, мысль и творчество — это вечная молодость. Бородка моя правда беловата, и на висках инея довольно, но всё же ещё волосы вьются, и русые они, а не седые. Мой внешний лик всё тот же, но в сердце много грусти…К. Д. Бальмонт — Е. А. Андреевой.
В апреле 1936 года парижские русские литераторы отметили пятидесятилетие писательской деятельности Бальмонта творческим вечером, призванным собрать средства в помощь больному поэту. В комитет по организации вечера под названием «Поэту — писатели» вошли известные деятели русской культуры: И. С. Шмелёв, М. Алданов,
И. А. Бунин, Б. К. Зайцев, А. Н. Бенуа, А. Т. Гречанинов, П. Н. Милюков, С. В. Рахманинов.
В конце 1936 года Бальмонт и Цветковская перебрались в Нуази-ле-Гран под Парижем. Последние годы жизни поэт пребывал попеременно то в доме призрения для русских, который содержала М. Кузьмина-Караваева, то в дешёвой меблированной квартире. Как вспоминал Юрий Терапиано, «немцы относились к Бальмонту безразлично, русские же гитлеровцы попрекали его за прежние революционные убеждения». Впрочем, к этому моменту Бальмонт окончательно впал в «сумеречное состояние»; он приезжал в Париж, но всё с бо́льшим трудом. В часы просветления, когда душевная болезнь отступала, Бальмонт, по воспоминаниям знавших его, с ощущением счастья открывал том «Войны и мира» или перечитывал свои старые книги; писать он уже давно не мог.
В 1940—1942 годах Бальмонт не покидал Нуази-ле-Гран; здесь, в приюте «Русский дом», он и скончался ночью 23 декабря 1942 года от воспаления лёгких. Его похоронили на местном католическом кладбище, под надгробной плитой из серого камня с надписью: «Constantin Balmont, poète russe» («Константин Бальмонт, русский поэт»). Из Парижа попрощаться с поэтом приехали несколько человек: Б. К. Зайцев с женой, вдова Ю. Балтрушайтиса, двое-трое знакомых и дочь Мирра. Ирина Одоевцева вспоминала: «…шёл сильный дождь. Когда гроб стали опускать в могилу, она оказалась наполненной водой, и гроб всплыл. Его пришлось придерживать шестом, пока засыпа́ли могилу». Французская общественность узнала о кончине поэта из статьи в прогитлеровском «Парижском вестнике», который сделал, «как тогда полагалось, основательный выговор покойному поэту за то, что в своё время он поддерживал революционеров».
С конца 1960-х гг. стихи Бальмонта в СССР стали печатать в антологиях. В 1984 г. издан большой сборник избранных произведений.
Гоголь Николай Васильевич.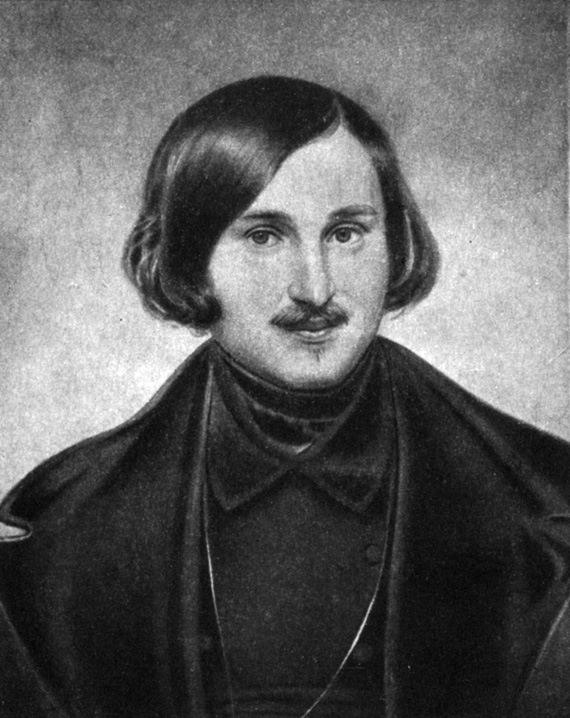
Никола́й Васи́льевич Го́голь (при рождении Яно́вский, с 1821 года — Го́голь-Яно́вский; 20 марта [1 апреля] 1809, Сорочинцы, Миргородский уезд, Полтавская губерния — 21 февраля [4 марта] 1852, Москва) — русский прозаик, драматург, критик, публицист, признанный одним из классиков русской литературы. Происходил из старинного малороссийского дворянского рода Гоголей-Яновских.
Детство и юность.
Николай Васильевич Яновский родился 20 марта (1 апреля) 1809 года в Сорочинцах близ реки Псёл, на границе Полтавского и Миргородского уездов (Полтавская губерния). Николаем его назвали в честь Святителя Николая. Согласно семейному преданию, он происходил из старинного казацкого рода и предположительно был потомком Остапа Гоголя — гетмана Правобережного Войска Запорожского Речи Посполитой. Некоторые из его предков приставали и к шляхетству, и ещё дед Гоголя, Афанасий Демьянович Гоголь-Яновский (1738—1805), писал в официальной бумаге, что «его предки, фамилией Гоголь, польской нации», хотя большинство биографов склонно считать, что он всё же был малороссом. Ряд исследователей, чьё мнение сформулировал В. В. Вересаев, считают, что происхождение от Остапа Гоголя могло быть сфальсифицировано Афанасием Демьяновичем для получения им дворянства, так как священническая родословная была непреодолимым препятствием для вступления в дворянское достоинство.
Прапрадед Ян (Иван) Яковлевич, воспитанник Киевской духовной академии, «вышедши в российскую сторону», поселился в Полтавском крае, и от него пошло прозвание «Яновских» (по другой версии они были Яновскими, так как жили в местности Янове). Получив дворянскую грамоту в 1792 году, Афанасий Демьянович сменил фамилию «Яновский» на «Гоголь-Яновский». Согласно церковной метрике, будущий писатель при рождении всё-таки был назван Николаем Яновским. По прошению его отца Василия Афанасьевича в 1820 году Николай Яновский был признан дворянином, а в 1821 году за ним была закреплена фамилия Гоголь-Яновский. По-видимому, Николай Васильевич не знал о настоящем происхождении фамилии и впоследствии отбросил её вторую часть «Яновский», говоря, что её поляки выдумали, оставив себе только первую — «Гоголь». Отец писателя, родившийся в родовом имении Яновщина (ныне Гоголево), Василий Афанасьевич Гоголь-Яновский (1777—1825), умер, когда сыну было 16 лет. Полагают, что сценическая деятельность отца, который был замечательным рассказчиком и писал пьесы для домашнего театра, определила интересы будущего писателя — у Гоголя рано проявился интерес к театру.
Мать Гоголя, Мария Ивановна (1791—1868), рожд. Косяровская, была выдана замуж в возрасте четырнадцати лет в 1805 году. По отзывам современников, она была исключительно хороша собой. Жених был вдвое старше её.
Семье писателя принадлежало четыре сотни крепостных душ.
Помимо Николая в семье было ещё одиннадцать детей. Всего было шесть мальчиков и шесть девочек. Первые два мальчика родились мёртвыми. Николай был третьим ребёнком. Четвёртым сыном был рано умерший Иван (1810—1819). Затем родилась дочь Мария (1811—1844). Все средние дети также умерли в младенчестве. Последними родились дочери Анна (1821—1893), Елизавета (в замужестве Быкова) (1823—1864) и Ольга (1825—1907).
Жизнь в деревне до школы и после, в каникулы, шла в полнейшей обстановке малороссийского быта, как панского, так и крестьянского. Впоследствии эти впечатления легли в основу малороссийских повестей Гоголя, послужили причиной его исторических и этнографических интересов; позднее из Петербурга Гоголь постоянно обращался к матери, когда ему требовались новые бытовые подробности для его повестей. Влиянию матери приписывают задатки той религиозности и того мистицизма, которые к концу жизни овладели всем существом Гоголя.
В возрасте десяти лет Гоголя отвезли в Полтаву к одному из местных учителей, для подготовки к обучению в местной гимназии; затем он поступил в Гимназию высших наук в Нежине (с мая 1821 по июнь 1828). Гоголь не был прилежным учеником, но обладал прекрасной памятью, за несколько дней готовился к экзаменам и переходил из класса в класс; он был очень слаб в языках и делал успехи только в рисовании и русской словесности.
В плохом обучении была, по-видимому, отчасти виновата и сама гимназия высших наук, в первые годы своего существования не слишком хорошо организованная; например, история преподавалась методом зубрёжки, преподаватель словесности Никольский превозносил значение русской литературы XVIII века и не одобрял современной ему поэзии Пушкина и Жуковского, что, впрочем, лишь усиливало интерес гимназистов к романтической литературе. Уроки нравственного воспитания дополнялись розгой. Доставалось и Гоголю.
Недостатки школы восполнялись самообразованием в кружке товарищей, где нашлись люди, разделявшие с Гоголем литературные интересы (Герасим Высоцкий, по-видимому, имевший тогда на него немалое влияние; Александр Данилевский, оставшийся его другом на всю жизнь, как и Николай Прокопович; Нестор Кукольник, с которым, впрочем, Гоголь никогда не сходился).
Товарищи выписывали в складчину журналы; затеяли свой рукописный журнал, где Гоголь много писал в стихах. В то время он писал элегические стихотворения, трагедии, историческую поэму и повесть, а также сатиру «Нечто о Нежине, или Дуракам закон не писан». С литературными интересами развилась и любовь к театру, где Гоголь, уже тогда отличавшийся необычным комизмом, был самым ревностным участником (ещё со второго года пребывания в Нежине). Юношеские опыты Гоголя складывались в стиле романтической риторики — не во вкусе Пушкина, которым Гоголь уже тогда восхищался, а скорее во вкусе Бестужева-Марлинского.
Смерть отца в 1825 году была тяжёлым ударом для всей семьи. Похоронили его в родной Яновщине. Заботы о делах ложатся теперь и на Гоголя; он даёт советы, успокаивает мать, должен думать о будущем устройстве своих собственных дел. Мать боготворит своего сына Николая, считает его гениальным, она отдаёт ему последнее из своих скудных средств для обеспечения его нежинской, а впоследствии петербургской жизни. Николай также всю жизнь платил ей горячей сыновней любовью, однако полного понимания и доверительных отношений между ними не существовало. Позднее он откажется от своей доли в общем семейном наследстве в пользу сестёр, чтобы целиком посвятить себя литературе.
К концу пребывания в гимназии он мечтает о широкой общественной деятельности, которая, однако, видится ему вовсе не на литературном поприще; без сомнения под влиянием всего окружающего, он думает выдвинуться и приносить пользу обществу на службе, к которой на деле он был не способен. Таким образом, планы будущего были неясны; но Гоголь был уверен, что ему предстоит широкое поприще; он говорит уже об указаниях провидения и не может удовлетвориться тем, чем довольствуются простые обыватели, по его выражению, какими было большинство его нежинских товарищей.
Санкт-Петербург.
В декабре 1828 года Гоголь переехал в Санкт-Петербург. Здесь впервые ждало его жестокое разочарование: скромные средства оказались в большом городе совершенно недостаточными, а блестящие надежды не осуществлялись так скоро, как он ожидал. Его письма домой того времени смешаны из этого разочарования и туманного упования на лучшее будущее. В запасе у него были сила характера и практическая предприимчивость: он пробовал поступить на сцену, стать чиновником, отдаться литературе.
Несмотря на его многочисленные попытки, в актёры его так и не приняли.
В конце 1829 года Гоголь поступил на службу писцом 1-го стола 2-го отделения департамента уделов Министерства уделов и вскоре становится помощником столоначальника, при этом был пожалован самым младшим чином по табели о рангах: коллежского регистратора; прослужил полтора года. Чиновником он был плохим. Служба его была настолько бессодержательна и монотонна, что стала ему невыносима. Тем не менее из своего опыта службы Гоголь почерпнул материал для своих петербургских повестей.
Литературное поприще стало единственной возможностью его самовыражения. В Петербурге он первое время держался общества земляков, состоявшего отчасти из прежних товарищей. Он нашёл, что Малороссия возбуждает живой интерес в петербургском обществе; испытанные неудачи обратили его поэтические мечтания к родному краю, и отсюда возникли первые планы труда, который должен был дать исход потребности художественного творчества, а также принести и практическую пользу: это были планы «Вечеров на хуторе близ Диканьки».
Но до этого он издал под псевдонимом В. Алов романтическую идиллию «Ганц Кюхельгартен» (1829), которая была написана ещё в Нежине (он сам пометил её 1827 годом) и герою которой приданы те идеальные мечты и стремления, какими он был исполнен в последние годы нежинской жизни. Вскоре по выходе книжки в свет он сам уничтожил её тираж, когда критика отнеслась неблагосклонно к его произведению.
В беспокойном искании жизненного дела Гоголь в это время отправился за границу, морем в Любек, но через месяц вернулся опять в Петербург (сентябрь 1829) — и после объяснял свой поступок тем, что Бог указал ему путь в чужую землю, или ссылался на безнадёжную любовь. В действительности он бежал от самого себя, от разлада своих высоких, а также высокомерных мечтаний с практическою жизнью. «Его тянуло в какую-то фантастическую страну счастья и разумного производительного труда», — говорит его биограф; такой страной представлялась ему Америка. На деле вместо Америки он попал на службу в III Отделение благодаря протекции Фаддея Булгарина. Впрочем, пребывание его там было непродолжительным. Впереди его ждала служба в департаменте уделов (апрель 1830), где он оставался до 1832 года. В 1830 году завязываются первые литературные знакомства: Орест Сомов, барон Дельвиг, Пётр Плетнёв. В 1831 году происходит сближение с кругом В. А. Жуковского и А. С. Пушкина, что оказало решительное влияние на его дальнейшую судьбу и на его литературную деятельность.
Неудача с «Ганцем Кюхельгартеном» была ощутимым указанием на необходимость другого литературного пути; но ещё раньше, с первых месяцев 1829 года, Гоголь осаждает мать просьбами о присылке ему сведений об малорусских обычаях, преданиях, костюмах, а также о присылке «записок, ведённых предками какой-нибудь старинной фамилии, рукописей стародавних» и пр. Всё это был материал для будущих рассказов из малорусского быта и преданий, которые стали началом его литературной славы. Он уже́ принимал некоторое участие в изданиях того времени: в начале 1830 года в «Отечественных записках» Свиньина был напечатан (с правками редакции) «Вечер накануне Ивана Купала»; в то же время (1829) были начаты или написаны «Сорочинская ярмарка» и «Майская ночь».
Другие сочинения Гоголь печатал тогда в изданиях барона Дельвига «Литературная газета» и «Северные цветы», где была помещена глава из исторического романа «Гетьман». Быть может, Дельвиг рекомендовал его Жуковскому, который принял Гоголя с большим радушием: по-видимому, между ними с первого раза сказалось взаимное сочувствие людей, родственных по любви к искусству, по религиозности, склонной к мистицизму, — после они сблизились очень тесно.
Жуковский сдал молодого человека на руки Плетнёву с просьбой его пристроить, и действительно, в феврале 1831 года Плетнёв рекомендовал Гоголя на должность учителя в Патриотическом институте, где сам был инспектором. Узнав ближе Гоголя, Плетнёв ждал случая «подвести его под благословение Пушкина»: это случилось в мае того же года. Вступление Гоголя в этот круг, вскоре оценивший в нём великий зарождающийся талант, оказало на судьбу Гоголя огромное влияние. Перед ним открывалась, наконец, перспектива широкой деятельности, о которой он мечтал, — но на поприще не служебном, а литературном.
В материальном отношении Гоголю могло помочь то, что кроме места в институте Плетнёв предоставил ему возможность вести частные занятия у Лонгиновых, Балабиных, Васильчиковых; но главное было в нравственном влиянии, которое оказывала на Гоголя эта новая для него среда. В 1834 году его назначили на должность адъюнкта по кафедре истории в Петербургском университете. Он вошёл в круг лиц, стоявших во главе русской художественной литературы: его давние поэтические стремления могли развиваться во всей широте, инстинктивное понимание искусства могло стать глубоким сознанием; личность Пушкина произвела на него чрезвычайное впечатление и навсегда осталась для него предметом поклонения. Служение искусству становилось для него высоким и строгим нравственным долгом, требования которого он старался исполнять свято.
Отсюда, между прочим, и его медлительная манера работы, долгое определение и выработка плана и всех подробностей. Общество людей с широким литературным образованием вообще было полезно для юноши со скудными познаниями, вынесенными из школы: его наблюдательность становится глубже, и с каждым новым произведением его творческий уровень достигает новых высот. У Жуковского Гоголь встречал избранный круг, частью литературный, частью аристократический; в последнем у него вскоре завязались отношения, сыгравшие в будущем немалую роль в его жизни, например, с Виельгорскими; у Балабиных он встретился с блестящей фрейлиной Александрой Росетти (впоследствии Смирновой). Горизонт его жизненных наблюдений расширялся, давнишние стремления получали почву, и высокое понятие Гоголя о своём предназначении становилось предельным самомнением: с одной стороны, его настроение становилось возвышенно идеалистичным, с другой, возникли и предпосылки для религиозных исканий, какими отмечены последние годы его жизни.
Эта пора была самою деятельной эпохой его творчества. После небольших трудов, выше частью названных, его первым крупным литературным делом, положившим начало его славе, были «Вечера на хуторе близ Диканьки. Повести, изданные пасичником Рудым Паньком», вышедшие в Петербурге в 1831 и 1832 годах, двумя частями (в первой были помещены «Сорочинская ярмарка», «Вечер накануне Ивана Купала», «Майская ночь, или утопленница», «Пропавшая грамота»; во второй — «Ночь перед Рождеством», «Страшная месть, старинная быль», «Иван Фёдорович Шпонька и его тётушка», «Заколдованное место»).
Эти рассказы, изображавшие невиданным прежде образом картины украинского быта, блиставшие весёлостью и тонким юмором, произвели большое впечатление на Пушкина. Следующими сборниками были сначала «Арабески», потом «Миргород», оба вышедшие в 1835 году и составленные частично из статей, опубликованных в 1830—1834 годах, а частично из новых произведений, публиковавшихся впервые. Вот когда литературная слава Гоголя стала бесспорной.
Он вырос в глазах и его ближайшего круга, и вообще молодого литературного поколения. Тем временем в личной жизни Гоголя происходили события, различным образом влиявшие на внутренний склад его мыслей и фантазий и на его внешние дела. В 1832 году он впервые был на родине после окончания курса в Нежине. Путь лежал через Москву, где он познакомился с людьми, которые стали потом его более или менее близкими друзьями: с Михаилом Погодиным, Михаилом Максимовичем, Михаилом Щепкиным, Сергеем Аксаковым.
Пребывание дома сначала окружало его впечатлениями родной любимой обстановки, воспоминаниями прошлого, но затем и тяжёлыми разочарованиями. Домашние дела были расстроены; сам Гоголь уже не был восторженным юношей, каким оставил родину: жизненный опыт научил его вглядываться глубже в действительность и за её внешней оболочкой видеть её часто печальную, даже трагическую основу. Вскоре его «Вечера» стали казаться ему поверхностным юношеским опытом, плодом той «молодости, во время которой не приходят на ум никакие вопросы».
Украинская жизнь и в это время доставляла материал для его фантазии, но настроение было иное: в повестях «Миргорода» постоянно звучит эта грустная нота, доходящая до высокого пафоса. Вернувшись в Петербург, Гоголь усиленно работал над своими произведениями: это была вообще самая активная пора его творческой деятельности; он продолжал, вместе с тем, строить жизненные планы.
С конца 1833 года он увлёкся мыслью столь же несбыточной, сколь несбыточными были его прежние планы относительно службы: ему казалось, что он может выступить на учёном поприще. В то время готовилось открытие Киевского университета, и он мечтал занять там кафедру истории, которую преподавал девицам в Патриотическом институте. В Киев приглашали Максимовича; Гоголь мечтал приступить к занятиям в Киеве вместе с ним, желал зазвать туда и Погодина; в Киеве его воображению представлялись русские Афины, где сам он думал написать нечто небывалое по всеобщей истории.
Однако оказалось, что кафедра истории была отдана другому лицу; но зато вскоре, благодаря влиянию его высоких литературных друзей, ему предложена была такая же кафедра в Петербургском университете. Он действительно занял эту кафедру; несколько раз ему удалось прочесть эффектную лекцию, но затем задача оказалась ему не по силам, и он сам отказался от профессуры в 1835 году. В 1834 году он написал несколько статей по истории западного и восточного средневековья.
В 1832 году его работа несколько приостановилась из-за домашних и личных хлопот. Но уже в 1833 году он снова усиленно работает, и результатом этих годов были два упомянутые сборника. Сначала вышли «Арабески» (две части, СПб., 1835), где было помещено несколько статей популярно-научного содержания по истории и искусству («Скульптура, живопись и музыка»; «Несколько слов о Пушкине»; «Об архитектуре»; «О преподавании всеобщей истории»; «Взгляд на составление Малороссии»; «О малороссийских песнях» и пр.), но вместе с тем и новые повести «Портрет», «Невский проспект» и «Записки сумасшедшего».
Потом в том же году вышел «Миргород» — повести, служащие продолжением «Вечеров на хуторе близ Диканьки» (две части, СПб., 1835). Здесь помещён был целый ряд произведений, в которых раскрывались новые поразительные черты таланта Гоголя. В первой части «Миргорода» появились «Старосветские помещики» и «Тарас Бульба»; во второй — «Вий» и «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем».
Впоследствии (1842) «Тарас Бульба» был полностью переработан Гоголем. Будучи профессиональным историком, Гоголь использовал фактические материалы для построения сюжета и разработки характерных персонажей романа. События, лёгшие в основу романа — крестьянско-казацкие восстания 1637 — 1638 годов, предводительствуемые Гуней и Острянином. По всей видимости, писатель использовал дневники польского очевидца этих событий — войскового капеллана Симона Окольского.
К началу тридцатых годов относятся замыслы и некоторых других произведений Гоголя, таких как знаменитая «Шинель», «Коляска», может быть, «Портрет» в его переделанной редакции; эти произведения явились в «Современнике» Пушкина (1836) и Плетнёва (1842) и в первом собрании сочинений (1842); к более позднему пребыванию в Италии относится «Рим» в «Москвитянине» Погодина (1842).
К 1834 году относят первый замысел «Ревизора». Сохранившиеся рукописи Гоголя указывают, что он работал над своими произведениями чрезвычайно тщательно: по тому, что уцелело из этих рукописей, видно, как произведение в его известной нам, законченной форме вырастало постепенно из первоначального очерка, все более осложняясь подробностями и достигая, наконец, той удивительной художественной полноты и жизненности, с какими мы знаем их по завершении процесса, тянувшегося иногда целые годы.
Основной сюжет «Ревизора», как позднее и сюжет «Мёртвых душ», был сообщён Гоголю Пушкиным. Всё создание, начиная от плана и до последних частностей, было плодом собственного творчества Гоголя: анекдот, который мог быть рассказан в нескольких строках, превращался в богатое художественное произведение.
«Ревизор» вызвал бесконечную работу определения плана и деталей исполнения; существует целый ряд набросков, в целом и частями, и первая печатная форма комедии явилась в 1836 году. Старая страсть к театру овладела Гоголем в чрезвычайной степени: комедия не выходила у него из головы; его томительно увлекала мысль стать лицом к лицу с обществом; он с величайшей заботливостью старался, чтобы пьеса была исполнена в соответствии с его собственной идеей о характерах и действии; постановка встречала разнообразные препятствия, в том числе цензурные, и наконец могла осуществиться только по воле императора Николая.
«Ревизор» имел необычайное действие: ничего подобного не видела русская сцена; действительность русской жизни была передана с такою силой и правдой, что хотя, как говорил сам Гоголь, дело шло только о шести провинциальных чиновниках, оказавшихся плутами, на него восстало всё то общество, которое почувствовало, что дело идёт о целом принципе, о целом порядке жизни, в котором и само оно пребывает.
Но, с другой стороны, комедия встречена была с величайшим энтузиазмом теми элементами общества, которые сознавали существование этих недостатков и необходимость их преодоления, и в особенности молодым литературным поколением, увидевшим здесь ещё раз, как в прежних произведениях любимого писателя, целое откровение, новый, возникающий период русского художества и русской общественности. Таким образом, «Ревизор» расколол общественное мнение. Если для консервативно-бюрократической части общества пьеса казалась демаршем, то для ищущих и свободомыслящих поклонников Гоголя это был определённый манифест.
Самого Гоголя интересовал, в первую очередь, литературный аспект, в общественном плане он стоял вполне на точке зрения своих друзей Пушкинского круга, хотел только больше честности и правды в данном порядке вещей, и потому-то его особенно поразил тот разноголосый шум непонимания, который поднялся вокруг его пьесы. Впоследствии, в «Театральном разъезде после представления новой комедии», он, с одной стороны, передал то впечатление, какое произвёл «Ревизор» в различных слоях общества, а с другой — высказал свои собственные мысли о великом значении театра и художественной правды.
Первые драматические планы явились Гоголю ещё раньше «Ревизора». В 1833 году он поглощён был комедией «Владимир 3-й степени»; она не была им докончена, но материал её послужил для нескольких драматических эпизодов, как «Утро делового человека», «Тяжба», «Лакейская» и «Отрывок». Первая из этих пьес явилась в «Современнике» Пушкина (1836), остальные — в первом собрании его сочинений (1842).
В том же собрании явились в первый раз «Женитьба», наброски которой относятся к тому же 1833 году, и «Игроки», задуманные в половине 1830-х годов. Утомлённый творческим напряжением последних лет и нравственными тревогами, каких стоил ему «Ревизор», Гоголь решил отдохнуть от работы, уехав в путешествие за границу.
За границей.
В июне 1836 года Николай Васильевич уехал за границу, где пробыл с перерывами около десяти лет. Сначала жизнь за рубежом как будто укрепила и успокоила его, дала ему возможность завершить его величайшее произведение — «Мёртвые души», но стала зародышем и глубоко фатальных явлений. Опыт работы с этой книгой, противоречивая реакция современников на неё так же, как в случае с «Ревизором», убедили его в огромном влиянии и неоднозначной власти его таланта над умами современников. Эта мысль постепенно стала складываться в представление о своём пророческом предназначении, и соответственно, об употреблении своего пророческого дара силой своего таланта на благо обществу, а не во вред ему.
За границей он жил в Германии, Швейцарии, зиму провёл с А. Данилевским в Париже, где встретился и особенно сблизился с А. О. Смирновой и где его застало известие о смерти Пушкина, страшно его поразившее.
В марте 1837 года он был в Риме, который чрезвычайно ему полюбился и стал для него как бы второй родиной. Европейская политическая и общественная жизнь всегда оставалась чужда и совсем незнакома Гоголю; его привлекала природа и произведения искусства, а Рим в то время представлял именно эти интересы. Гоголь изучал памятники древности, картинные галереи, посещал мастерские художников, любовался народной жизнью и любил показывать Рим, «угощать» им приезжих русских знакомых и приятелей.
Но в Риме он и усиленно работал: главным предметом этой работы были «Мёртвые души», задуманные ещё в Петербурге в 1835 году; здесь же, в Риме закончил он «Шинель», писал повесть «Анунциата», переделанную потом в «Рим», писал трагедию из быта запорожцев, которую, впрочем, после нескольких переделок уничтожил.
Осенью 1839 года он вместе с Погодиным отправился в Россию, в Москву, где его встретили Аксаковы, восторженно относившиеся к таланту писателя. Потом он поехал в Петербург, где ему надо было взять сестёр из института; затем опять вернулся в Москву; в Петербурге и в Москве он читал ближайшим друзьям законченные главы «Мёртвых душ».
Устроив свои дела, Гоголь опять отправился за границу, в любимый Рим; друзьям он обещал вернуться через год и привезти готовый первый том «Мёртвых душ». К лету 1841 года первый том был готов. В сентябре этого года Гоголь отправился в Россию печатать свою книгу.
Ему снова пришлось пережить тяжёлые тревоги, какие испытал он некогда при постановке на сцене «Ревизора». Книга была представлена сначала в московскую цензуру, которая собиралась совсем запретить её; затем книга отдана в цензуру петербургскую и благодаря участию влиятельных друзей Гоголя была, с некоторыми исключениями, дозволена. Она вышла в свет в Москве («Похождения Чичикова или Мёртвые души, поэма Н. Гоголь», М., 1842).
В июне Гоголь опять уехал за границу. Это последнее пребывание за границей стало окончательным переломом в душевном состоянии Гоголя. Он жил то в Риме, то в Германии, во Франкфурте, Дюссельдорфе, то в Ницце, то в Париже, то в Остенде, часто в кружке своих ближайших друзей — Жуковского, Смирновой, Виельгорских, Толстых, и в нём всё сильнее развивалось то религиозно-пророческое направление, о котором упомянуто выше.
Высокое представление о своём таланте и лежащей на нём обязанности привело его к убеждению, что он творит нечто провиденциальное: для того, чтобы обличать людские пороки и широко смотреть на жизнь, надо стремиться к внутреннему совершенствованию, которое даётся только богомыслием. Несколько раз пришлось ему перенести тяжёлые болезни, которые ещё больше увеличивали его религиозное настроение; в своём кругу он находил удобную почву для развития религиозной экзальтации — он принимал пророческий тон, самоуверенно делал наставления своим друзьям и в конце концов приходил к убеждению, что сделанное им до сих пор было недостойно той высокой цели, к которой он считал себя призванным. Если прежде он говорил, что первый том его поэмы «Мёртвые души» есть не больше, как крыльцо к тому дворцу, который в нём строится, то в это время он готов был отвергать всё им написанное, как греховное и недостойное его высокого предназначения.
Николай Гоголь с детских лет не отличался крепким здоровьем. Смерть в отрочестве его младшего брата Ивана, безвременная кончина отца наложили отпечаток на его душевное состояние. Работа над продолжением «Мёртвых душ» не клеилась, и писатель испытывал мучительные сомнения в том, что ему удастся довести задуманное произведение до конца. Летом 1845 года его настигает мучительный душевный кризис. Он пишет завещание, вторично сжигает рукопись второго тома «Мёртвых душ». В ознаменование избавления от смерти Гоголь решает уйти в монастырь и стать монахом, но монашество не состоялось. Зато его уму представилось новое содержание книги, просветлённое и очищенное; ему казалось, что он понял, как надо писать, чтобы «устремить всё общество к прекрасному». Он решает служить Богу на поприще литературы. Началась новая работа, а тем временем его заняла другая мысль: ему скорее хотелось сказать обществу то, что он считал для него полезным, и он решает собрать в одну книгу всё писанное им в последние годы к друзьям в духе своего нового настроения и поручает издать эту книгу Плетнёву. Это были «Выбранные места из переписки с друзьями» (СПб., 1847).
Большая часть писем, составляющих эту книгу, относится к 1845 и 1846 годам, той поре, когда религиозное настроение Гоголя достигло своего высшего развития. 1840-е годы — пора формирования и размежевания двух различных идеологий в современном ему русском образованном обществе. Гоголь остался чужд этому размежеванию несмотря на то, что каждая из двух враждующих партий — западников и славянофилов, предъявляла на Гоголя свои законные права. Книга произвела тяжёлое впечатление и на тех, и на других, поскольку Гоголь мыслил совершенно в иных категориях. Даже друзья-Аксаковы отвернулись от него. Гоголь своим тоном пророчества и назидания, проповедью смирения, из-за которой виднелось, однако, собственное самомнение; осуждениями прежних трудов, полным одобрением существующих общественных порядков явно диссонировал тем идеологам, кто уповал лишь на социальное переустройство общества. Гоголь, не отвергая целесообразности социального переустройства, основную цель видел в духовном самосовершенствовании. Поэтому на долгие годы предметом его изучения становятся труды отцов Церкви. Но, не примкнув ни к западникам, ни к славянофилам, Гоголь остановился на полпути, не примкнув целиком и к духовной литературе — Серафиму Саровскому, Игнатию (Брянчанинову) и др.
Впечатление книги на литературных поклонников Гоголя, желающих видеть в нём лишь вождя «натуральной школы», было удручающее. Высшая степень негодования, возбуждённого «Выбранными местами», выразилась в известном письме Белинского из Зальцбрунна.
Гоголь мучительно переживал провал своей книги. Лишь А. О. Смирнова и П. А. Плетнёв смогли поддержать его в эту минуту, но то были лишь частные эпистолярные мнения. Нападения на неё он объяснял отчасти и своей ошибкой, преувеличением назидательного тона, и тем, что цензура не пропустила в книге нескольких важных писем; но нападения прежних литературных приверженцев он мог объяснить только расчётами политических движений и самолюбий. Общественный смысл этой полемики был ему чужд.
В подобном смысле были им тогда написаны «Предисловие ко второму изданию Мёртвых Душ»; «Развязка Ревизора», где свободному художественному созданию он хотел придать характер нравоучительной аллегории, и «Предуведомление», где объявлялось, что четвёртое и пятое издание «Ревизора» будут продаваться в пользу бедных… Неудача книги произвела на Гоголя подавляющее действие. Он должен был сознаться, что ошибка была сделана; даже такие друзья, как С. Т. Аксаков, говорили ему, что ошибка была грубая и жалкая; сам он сознавался Жуковскому: «я размахнулся в моей книге таким Хлестаковым, что не имею духу заглянуть в неё».
В его письмах с 1847 года уже нет прежнего высокомерного тона проповедничества и назидания; он увидел, что описывать русскую жизнь можно только посреди неё и изучая её. Убежищем его осталось религиозное чувство: он решил, что не может продолжать работы, не исполнив давнишнего намерения поклониться Святому Гробу. В конце 1847 года он переехал в Неаполь, и в начале 1848 года отплыл в Палестину, откуда через Константинополь и Одессу вернулся окончательно в Россию.
Пребывание в Иерусалиме не произвело того действия, какого он ожидал. «Ещё никогда не был я так мало доволен состоянием сердца своего, как в Иерусалиме и после Иерусалима, — говорит он. — У Гроба Господня я был как будто затем, чтобы там на месте почувствовать, как много во мне холода сердечного, как много себялюбия и самолюбия».
Свои впечатления от Палестины Гоголь называет сонными; застигнутый однажды дождём в Назарете, он думал, что просто сидит в России на станции. Он пробыл конец весны и лето в деревне у матери, а 1 (13) сентября переехал в Москву; лето 1849 года проводил у Смирновой в деревне и в Калуге, где муж Смирновой был губернатором; лето 1850 года прожил опять в своей семье; потом жил некоторое время в Одессе, был ещё раз дома, а с осени 1851 года поселился в Москве, где жил в доме своего друга графа Александра Петровича Толстого (№ 7 на Никитском бульваре), в 1972 в этом здании был открыт мемориальный музей писателя.
Он продолжал работать над вторым томом «Мёртвых душ» и читал отрывки из него у Аксаковых, но в нём продолжалась та же мучительная борьба между художником и христианином, которая шла в нём с начала сороковых годов. По своему обыкновению, он много раз переделывал написанное, вероятно, поддаваясь то одному, то другому настроению. Между тем его здоровье всё более слабело; в январе 1852 года его поразила смерть жены А. С. Хомякова — Екатерины Михайловны, которая была сестрой его друга Н. М. Языкова; им овладел страх смерти; он бросил литературные занятия, стал говеть на масленице; однажды, когда он проводил ночь в молитве, ему послышались голоса, говорившие, что он скоро умрёт.
Смерть.
С конца января 1852 года в доме графа Александра Толстого гостил ржевский протоиерей Матфей Константиновский, с которым Гоголь познакомился в 1849 году, а до того был знаком по переписке. Между ними происходили сложные, подчас резкие беседы, основным содержанием которых было недостаточное смирение и благочестие Гоголя, например, требование отца Матфея: «Отрекись от Пушкина». Гоголь предложил ему прочесть беловой вариант второй части «Мёртвых душ» для ознакомления — с тем, чтобы выслушать его мнение, но получил отказ священника. Гоголь настаивал на своём, пока тот не взял тетради с рукописью для прочтения. Протоиерей Матфей стал единственным прижизненным читателем рукописи 2-й части. Возвращая её автору, он высказался против опубликования ряда глав, «даже просил уничтожить» их (ранее он также давал отрицательный отзыв на «Выбранные места …», назвав книгу «вредной»).
Смерть Хомяковой, осуждение Константиновского и, возможно, иные причины убедили Гоголя отказаться от творчества и начать говеть за неделю до Великого поста. 5 февраля он провожает Константиновского и с того дня почти ничего не ест. 10 февраля он вручил графу А. Толстому портфель с рукописями для передачи митрополиту Московскому Филарету, но граф отказался от этого поручения, чтобы не усугубить Гоголя в мрачных мыслях.
Гоголь перестаёт выезжать из дому. В 3 часа ночи с понедельника на вторник 11—12 февраля 1852 года, то есть в великое повечерие понедельника первой седмицы Великого поста, Гоголь разбудил слугу Семёна, велел ему открыть печные задвижки и принести из шкафа портфель. Вынув из него связку тетрадей, Гоголь положил их в камин и сжёг. Наутро он рассказал графу Толстому, что хотел сжечь только некоторые вещи, заранее на то приготовленные, а сжёг всё под влиянием злого духа. Гоголь, несмотря на увещевания друзей, продолжал строго соблюдать пост; 18 февраля слёг в постель и совсем перестал есть. Всё это время друзья и врачи пытаются помочь писателю, но он отказывается от помощи, внутренне готовясь к смерти.
20 февраля врачебный консилиум (профессор А. Е. Эвениус, профессор С. И. Клименков, доктор К. И. Сокологорский, доктор А. Т. Тарасенков, профессор И. В. Варвинский, профессор А. А. Альфонский, профессор А. И. Овер) решается на принудительное лечение Гоголя. Результатом его явилось окончательное истощение и утрата сил; вечером того же дня писатель впал в беспамятство.
Николай Васильевич Гоголь скончался утром в четверг 21 февраля 1852 года, не дожив месяца до своего 43-летия.